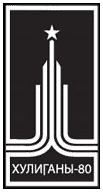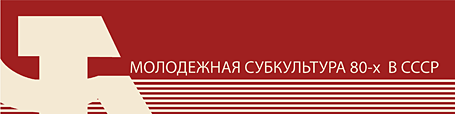
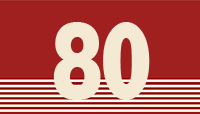
Роллинз Генри.Железо.
|
Есть леди, которая знает... Вот что случилось, и это, блядь, правда. Я шел из магазина. Выходить днем мне не нравится. Я не переношу солнца. Это мне вредно. Я не люб¬лю этих ебаных уродов, которые на меня эдак пялятся. Меч¬таю я только о том, чтобы их поубивать. Приятно было бы перестрелять их, как куски дерьма, коими они и являются. Глаза их выпучены, их грязные детишки таращатся и хихика¬ют. Я выхожу ночью, потому что тогда на улице меньше лю¬дей, и они не ебут мне мозг. Как я уже сказал, я иду, а рядом тормозит свинячья машина. Я останавливаюсь. А что мне, блядь, еще делать - идти дальше, будто я тут ни при чем? Нет, блин. Я останавливаюсь, ибо знаю, что свинья всегда найдет предлог упечь меня в кутузку, если я не останов¬люсь. Свинья вылазит из машины и спрашивает, куда я иду, и говорю, что иду в магазин, а он говорит, что я пидор, выис¬кивающий, у кого бы отсосать. Обзывает меня хуесосом, который ищет, чем бы поживиться. И говорит, что должен вы¬бить из меня говно прямо на месте. Я отвечаю, что я не пи¬дор. Свинья бьет меня в живот и швыряет на заднее сиденье своего автомобиля. Приставляет к моей голове пистолет и велит расстегнуть ему штаны, поскольку я буду сосать ему хуй прямо сейчас. Я сделал это. Я сосал свинов хуй. А что мне оставалось? Он приставил к моей голове пистолет. Я еще не был с мужчиной, если не считать некоторых маманиных дружков и моего сводного братца, но ни в тот, ни в другой раз это не я начинал. Он вышвырнул меня из ма¬шины и укатил. Я поплелся домой. Придет день, я убью эту ебаную свинью. Найду его и разнесу его свинячью задницу. Вот будет здорово. Я заставлю его сосать пистолет. Давай же, свинья. Живее, с чувством. Вложи немного души, когда будешь облизывать это дуло. Ненавижу эти пышные похоро¬ны легавых. Те самые, на которые налогоплательщики вы¬кладывают столько денег, - чтобы свиньи могли палить из своих пушек, а люди бы думали, что эта дохлая срань чего-то стоила. Поминки нужно проводить у меня дома. Мы мог¬ли бы праздновать, пить и хохотать, снова и снова прокручи¬вать видеозапись - я стреляю в свинью. Связать дружка свиньи и его мамашу и заставить смотреть, пока не лишатся чувств, а потом убить. А если вдруг свинья жената на какой-то тетке, то еще веселее. Послежу за ней несколько дней, изучу ее повадки, а потом куда-нибудь приглашу. Нацеплю на эти пизду поводок и поведу выгуливать. Блядища свиня¬чья. Иди. Рядом! Поливай цветы своей мочой, ебаная авось¬ка с дерьмом. Свиная подстилка. Стрельну ей в челюсть из 22-го калибра и брошу - изуродованную, но живую. Еб твою мать, свинья. Я тебя точно убью. Прошу прощения, но я ИСТИННЫЙ голос деревни. Ха-ха. Хо-хо. Я не хотела тебя. Ночью молилась, чтобы ты во мне умер. Я била тебя, изо всех сил налетая на столы, на¬деясь, что твой череп треснет. Я пила. Боже, как я пила. Я делала все, что могла, пытаясь тебя убить, пока ты рос во мне. Девять месяцев я чувствовала, что во мне растет раковая опухоль. Нужно было покончить с собой на девятом ме¬сяце. Было бы мастерски работа с моей стороны. Я ненави¬жу тебя. И все-таки ты вышел наружу. Первое время я была счастлива уже потому, что ты не во мне. Мне было все равно, как ты выглядишь. Медсестра спросила, не хочу ли я тебя понянчить, и я ответила «нет». Нужно было задушить те¬бя, пока ты спал. Я никогда не хотела тебя. Я хочу, чтобы ты об этом знал и никогда не забывал. Ты испортил мне фигу¬ру. Ты испортил мне жизнь. Я тебя ненавижу. Навсегда. Как мне вести нормальную половую жизнь с ебаным ребенком в доме? Ты думаешь, мужчина захочет прийти поебаться со мной, если знает, что в соседней комнате ребенок? Как я мо¬гу быть с мужчиной, если знаю, что ты можешь в любую ми¬нуту войти в ебаную спальню и попросить починить какую-нибудь ебаную игрушку? Мужчина не придет в такой дом снова. Вот почему я луплю тебя всякий раз, стоит им уйти. Ты разрушил мою жизнь. У меня не было жизни с тех пор, как ты появился. Я тебя ненавижу. Я помню, как отправляла своих приятелей бить тебя. Меня тошнило от прикоснове¬ний к тебе, а вот слушать твои вопли очень нравилось. Мне больше нравилось, когда это с тобой делал мужчина. Я все¬гда стояла за дверью и слушала, как они тебя бьют. Всегда надеялась, что один из них тебя убьет, и тебя не станет, и мне не придется отбывать срок. Ненавижу тебя. Знаешь, что больше всего меня бесит? Я так старалась убить тебя, но ничего не получилось. Ты Антихрист. Ты не умер. И те¬перь я жду конца своей жизни. Мне больше ничего не оста¬лось. Я старая и безобразная, ты мог бы войти в эту комна¬ту и убить меня, если бы захотел. Вот зачем я храню пистолет. Я ненавижу тебя. Сегодня великая ночь. Пистолет У меня во рту. Я уничтожу себя сегодня ночью. Сегодня,ко-нец моим страданиям. Больше не смотреть в зеркало и не «идеть это мерзкое тело. Единственное, что оно сделало, - дало жизнь тебе. Я могла бы стать моделью. Я могла бы стать стюардессой. Я могла бы стать кем угодно. А вместо этого стала матерью. Только одна жизнь. Моя жизнь истрачена на тебя. Я тебя ненавижу. Да знаю я, знаю - нарочитая мизантропическая неприспособленность. Она велела мне войти в ее ком¬нату. Я вошел и спросил, чего ей надо. Она сказала: «Я хочу наградить тебя кошмаром, который будет продолжаться до конца твоей жизни». Вытащила из-под подушки пистолет, вставила в рот дуло и нажала курок, прежде чем я успел что-то сказать. Ее тело отлетело и шлепнулось в углу. Теперь она делает это три ночи в неделю. Это случилось много лет на¬зад, но память моя свежа. Выстрел гремит в моих ушах часа¬ми, как реактивный двигатель. Теперь у меня в руке писто¬лет. Я не могу спать. Я все еще думаю о том выстреле. Я все еще думаю о том, что мне нужно. Все сбывается. Каждую ночь я чую запах пороха и собственной рвоты. Я все еще твержу себе, что нужно быть сильным. Информация. Вчера первый выстрел раздался в 7.36 ут¬ра. Ответного огня не было. Зарядил волыну и обстрелял гондонов, что устроили шум. Пригнись. Это пока не ты, так что и не думай о смерти. Это просто мешает документально¬му кино, которое смотришь, идя по моей ебаной улице. В этом Диком Западе нет благородства. Живи в страхе перед теми, кто понимает, что жизнь не имеет цены, и за это ты платишь бесконечно. Платишь своим страхом. Болезнь но¬сит накидку и прикрывается блестящим щитом. Статистика сводит ее к чистым цифрам. Реальность стала приходом по страху. Ею можно удавиться. Из трех женщин в Америке од¬на была изнасилована. Научная фактастика. Я вижу это со всех сторон. Я вижу, как распространяется зараза. Факты сложены в стопки и упакованы тебе в голову. Тебе нужен перерыв на два часа двенадцать раз в день. Забей косяк и загони машину. Посмотри на звезды. Прикинь, тебя при¬пекло. Ты в огромном бассейне с акулами. Если хочешь по¬бить их, придется к ним прибиться. Плохие парни убивают плохих парней. Плохие парни убивают хороших парней. Ес¬ли хочешь жить дольше плохих парней, в тебе должно быть чto-то плохое - много чего, на самом деле. Ты должен знать to, что знают они. Это кайфовые приключения в целом ми¬ре. Даже не знаю, что, по их мнению, должно было с ними скучиться. Слишком много телевидения, слишком много дур¬ной жратвы, слишком много журналов. Слишком много вре¬мени уходит на заботу о миллионерах в депрессии, которых бросили их бабы. На гаданье, как пройдут осенние концер¬ты. Кто бы ни захотел мне помочь, не сможет. Кто бы ни за-. хотел убить меня, может, и сможет. Кто бы ни захотел лю-' бить меня, лучше не надо. Люди ядовиты. Когда ты последний раз хотел кого-то убить? То есть действительно хотел кого-то убить? Когда ты планировал всю эту срань, ти¬па, что делать с телом и прочее. Когда ты последний раз дей¬ствительно хотел жить? Тебе нужно себе напоминать, что ты . жив? Я не носитель света, я не наемный стрелок. Я репортер на фронте. С передовой Бездны. Если бездна тебе к лицу, носи ее. Глядя в пасть монстру. Ветеран становится фараоном. Мужик выводит дюжину человек по проходу круглосуточного магазина и расстреливает их. Девушку несколько раз изнасиловали в душевой, и теперь она часто пытается покончить с собой. Она добрая американка - и она все сделает правильно. Ничего, кроме фактов. Мне нравятся те, что могут придушить. Правда - мой друг. Она согревает ме¬ня в ночи. Правда - твой друг, даже если она отправляет тебя в тюрьму. Даже если она убивает тебя и твоего партне¬ра по ебле. Нам предстоят яркие ночи. Ты привыкнешь к за¬паху напалма. Свиньи, пожирающие трупы, и юнец с писто¬летом, который носит спизженные у тебя часы и кольца, тебя нисколько пугать не будут. Чувствуй страх. И не забы¬вай пригибаться. ЧАСТО ЛИ Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ? Это собрание интервью, которые я брал у некоторых интересных людей, которых мне посчастливилось встретить за эти годы, а также мои путевые заметки и журнальные статьи, опубликованные в неотредактированном виде. С днем рожденья 13 февраля 1983 г. Немецко-голландская грани¬ца. По поводу вчерашнего вечера. «Nigheist» отыграли од¬ну песню, и тут скинхеды выскочили на сцену и накинулись на них. Один говнюк размахивал микрофонной стойкой над головой Маггера. У «Минитменов» просто крыши поехали, не успели они на сцену выйти. Они думали, что их сейчас по¬убивают. Это меня просто взбесило. Хотелось убить всех этих ебучек. Когда мы играли, один бритый влез на сцену и вертелся там, красуясь перед своими дружками, а я спихнул его, и он про¬летел порядочное расстояние до пола. Ему это не сильно по¬нравилось. Пришло восемьсот пятьдесят человек, но я уве¬рен, что в следующий раз народу будет намного меньше. Лучше всех выступил Д. Бун. На их последней песне «Фана¬тики» Д. спрыгнул со сцены с гитарой и побежал в толпу с воплем: «ФАНАТИКИ!!!» Народ не знал, что делать. Он по¬сбивал с ног этих бритых, как кегли. Местность прекрасная. Никогда не видел ничего подобного. Соломенные крыши домов, повсюду снег. Небо такое синее. Сегодня мне двадцать два. 13 февраля 1985 г. Хермоза-Бич, Калифорния: Сегодня мало что произошло. Получил несколько интерес¬ных писем. Я шел по бульвару Артезия на репетицию. Артезией я пользуюсь для наблюдений за миром. Самые лучшие: проходя мимо рынка «Лаки», увидел человека, громившего телефонную будку. Пытался выдрать трубку. Шнур не под¬давался. Мужик свирепел все сильнее. Он вмазал трубкой до аппарату и вылетел наружу. Я шел мимо заправки «Галф» на углу Артезии и Авиэйшн. Прямо по проезду. Подъехала машина. Женщина в ней была в ярости, потому что я шел не так быстро, как ей бы хотелось. Она орала на меня. Я отса¬лютовал ей по-гитлеровски. Она слетела с катушек. Непло¬хо. Видел, как мальчишка спер журнал «Крим» из магазина «7-11» на углу Артезия и Фелтон. Настоящий ловкач этот парень. Наклонился, обернул журнал вокруг ноги, натянул На него носок и рванул из магазина. Мальчишки в майках «Iron Maiden» тусуются и играют в видеоигры. В один прекрасный день эти ребята вырастут и будут стоять за прилавком. Сейчас это пока мечта. Но разве не мечтает об этом каждый? Надеть этот оранжевый с белым халат. Приколоть собственную бирку с именем. Стоять солидно, расставив ноги, смотреть гордо. И оборачиваться только за¬тем, чтобы заполнить заказ на «Большой глоток» или «Чавк». «Э-э, "7-11", уважаемый, сейчас четыре утра и все закрыто. Куда мне еще податься, кроме вас?» (Эй, дамочка, позвольте я помогу вам с микроволновкой!) А вы когда-ни¬будь заглядывали к нам в секцию прохладительных напит¬ков? Видели когда-нибудь этот знакомый оранжевый с бе¬лым халат, что тут мелькает? Держу пари, вам хотелось бы знать, что происходит здесь, и вы всегда надеетесь, что «Ка¬нал 7» сделает репортаж о нашей тайной жизни. Спорить готов, эй, я тоже! «7-11» - это биение пульса Америки. На¬верное, что Брюсу Спрингстину следует сочинить песенку о «7-11» в Эсбери-Парк, причем сочинить ее так, чтобы все США в ней увидели себя и причмокивали от восторга вмес¬те с Брюсом. На хуй Босса! Хайль Босс! Хайль «7-11»! Для протокола - сплю я плохо. Снятся тяжелые сны. Сны реальны. Я уродец. У меня чешуя. У меня перья. У меня шерсть. У меня огромные клыки. У меня когти. Я спасся от распятия. Отошел в сторону, дождался, когда процессия пройдет мимо, и сбежал. Я пришел жечь огнем. Я пришел вести их в пламя. Соединить их с огнем. Признания под пыт¬кой пламенем: я думал, что я в «Армии Спасения». «Армия Спасения»? Дулю! Солдаты Спасения, святые, нацеленные крушить. Очищай! Пали огонь! Пусть разверзнется. Эта шут¬ка меня убивает. Давай покончим с нею, чтобы я мог немно¬го поспать. 14 февраля 1986 г. Талса, Оклахома: Прошлая ночь в Литтл-Рок была с приключениями. Мы играли в таком со¬лидном месте, а никогда не знаешь, как Дуковски тебя под¬ставит. Сет был удачный. Публика -вполне приветливая. Так что мы закончили отделение, и все уже уходили, а они все еще хотели автографов и прочего, и я обслуживал их как мог хорошо. А тем временем разыскивал свои вещи, чтобы одеться. Иду к своему рюкзаку за футболками. А их нет. На их месте - дрянная панковская майка. Я догадываюсь, что сценарий был примерно такой: вороватый ебаный пункер запускает руку в вещички Генри и говорит: «На хуй, обдеру-ка я этого говнюка Роллинза». Берет майки, а потом что-то втемяшилось в его пустую башку. «Я знаю: возьму-ка я две эти чужие майки, поскольку я подлый гондон, а взамен положу свою дрянную панковскую майку!» И выходит в промозглую ночь Литтл-Рока. Следующая история была с бабищей, которая купила мне цветы. Мой день рождения и все такое. Она подошла ко мне и говорит: «Вы меня помните? Я та девушка, которая пода¬рила вам цветы». Еще б я ее не помнил. Ладно. «Так вот, - продолжает она, - вон тот негр, - она показывает на од¬ного из парней-уборщиков, - он гонялся за мной всю ночь. Я слыхала, что им нравятся крупные. Просто подошел ко мне и спрашивает: "Ты с кем ходишь?" - и я показала на вас. Он сказал, что хочет помериться силами с вами и увести меня от вас». Премного благодарен, дамочка! Я отошел от нее и сел на какой-то ящик с аппаратурой. Естественно, мужик подва¬ливает и предлагает помериться силами на локотках. Я ему говорю: «Мужик, я знаю, зачем ты хочешь со мной подрать¬ся. Эта толстая баба сказала тебе, что она со мной. Но это не так. Я ее никогда раньше не видел! Она тебе лапши навеша¬ла». Он отвечает: «Я тебя понял, мужик, погляди-ка». Зака¬тывает рукав и сгибает руку. А его бицепс все больше и больше. Наконец он завернул кисть, и у него на руке вы¬скочил мускул размером с мяч для гольфа. Меня чуть не стошнило. Я сказал: «Потрясающе, ты более чем достойный соперник». Он ухмыльнулся и удалился. А через пару минут подваливает такая крутая на вид красот¬ка и показывает сперва на мой член, а потом на свой рот. Я только улыбнулся. Она показала жестами, мол, какого раз¬мера у меня член. Я обозначил большим и указательным пальцем размер приблизительно три четверти дюйма. Она подошла еще ближе, протянула руку и сказала: «Поехали». Я внимательно поглядел на нее. Девка крута необычайно! Она уселась ко мне на колени и сказала: «Давай, начинай. Просто ложись и получай удовольствие». Я спросил, как ее зовут. «Персик Мельба». Я говорю: «Персик, дорогуша, я хо¬чу сказать тебе, что у тебя самая красивая задница из всех, что здесь есть сегодня, но я не могу быть с тобой». Персик спрашивает, почему. Я говорю: «Персик, ты - мужик! Есть определенные вещи, которых я делать не буду, и я не хочу, чтобы какой-то парень сосал мне хуй, спасибо, милая, ни за какие коврижки». А он меня спрашивает, согласился бы я, если б не смог определить. Я не стал отвечать и перевел разговор на его ярко-зеленые колготки. Я сказал, что у меня был диск Мадонны, на котором у нее был тот же оттенок. Мы сошлись на том, что Мадонна великолепна. Он рассказал мне, как обдурил Сэла и даже танцевал с ним. Мы еще не¬много поболтали, и он признался, что на самом деле его зо¬вут Тим. Я сказал, что Тим нравится мне намного больше. Ёбть, у парня на роже был почти целый дюйм косметики! Я сказал, что ему надо бы дня три не бриться, а потом выйти в женском прикиде со всей этой щетиной. Тим сказал, что он попробует. Потом встал с меня и ушел. Воры. Никому нельзя полностью доверять, кроме себя. До¬верять кому-то еще - слишком много хотеть от человека. Фанам «Black Flag», по крайней мере, доверять нельзя. Вче¬ра вечером они меня обокрали. Больше не буду никому из них верить. Если кто-то мне что-то дает, я спрашиваю, что он за это хочет, а если он говорит, что ничего не ждет взамен, я верну подношение. Нет доверия. Они всегда, так или иначе, хотят чего-то взамен. И мне очень не хотелось бы стоять к ним спиной, когда они придут за долгом. Никому из них нельзя верить. Они аплодируют, когда ты играешь, но если ты играешь не то, что они хотят слышать, они принимаются тебя оскорблять. Я кое-чему научился из этого говна. Понял, что все это одно и то же - хвалы, проклятья, любовь, нена¬висть, все одно и то же. И никто меня не переубедит. Я ни¬чего ни от кого не жду. Я редко разочаровываюсь. Зато ино¬гда случаются приятные сюрпризы. Никому! Никому не доверяю до конца, кроме себя и Джо. Того же я жду и от дру¬гих. Полное доверие - глупость. Полное доверие - для ду¬раков. Там же, где и «вера». 13 февраля 1987 г. 12.10. В поезде по пути в Чи¬каго, Иллинойс: Мимо проходят две девушки. «Как ты думаешь, куда это едет Генри?» Нужно было одеться под Синди Лоупер. Я еду в Мэдисон, штат Висконсин, на концерт. Железная дорога довезет меня только до Чикаго. Я не па¬рюсь. В этом поезде мне стукнуло двадцать шесть. Никто больше не будет говорить мне херню про «четверть века». Я на пути к тридцатнику. Только что провел три дня в округе Колумбия. Отыграл все концерты на Восточном Побережье: Нью-Йорк, Бостон, Про¬виденс, Нью-Хэйвен, Трентон, Нью-Брансвик, округ Колум¬бия. Конечно, было здорово повидать Иэна. Трудно пове¬рить, что мальчонке уже двадцать пять. Подходит совершенно незаметно. Не то чтобы я думал, что он умрет, не достигнув, но надеялся, что каким-то чудом он не будет взрослеть. Есть в нем нечто, отвергающее возраст. «Веч¬ный» - такое тяжелое, неуклюжее слово. Не хочу его упо¬треблять. Он - как время года. Я знаю, что он останется ря¬дом. Не попадет ни в какую авиакатастрофу. И все же не могу не думать. Чума. Иэн Маккэй, двадцать пять лет. Так не бывает. Из поездки я понял, что теперь это совсем другой город. Я даже не помню названий улиц. Большинство знакомых отсюда уехали. Я не знаю почти никого из тех, кто тусуется рядом. Наверное, чем меньше людей я знаю, тем лучше. Я не собираюсь приезжать сюда в гости - только играть. Нет необходимости проводить время с друзьями. Открывая рот, я лишь трачу время понапрасну. Бесполезно. Когда мы с ними в одной комнате, и мне неловко, и им неловко. Это ложь, это не срабатывает. И не должно срабатывать. Чело¬веческие игры запутывают меня. Завлекают меня в игры с самим собой. Весь вагон в этом поезде гудит от шума. Все пассажиры у меня за спиной пьяны. Я не могу понять, почему в поездах торгуют алкоголем. Воздух густо пропитан запахом пойла и дурной пищи. Пьяный парень передо мной рассказывает, как все его зна¬комые считают его гением, и говорит: - Ха! По мне, это ерунда! Компания стариков через проход беседует о всякой скучной чепухе, о своих детишках, о шоу Билла Косби, о жратве - и всё. Человека в ковбойской шляпе надо казнить. Он бро¬дит взад-вперед по вагону и вопит: — Кому пива? Какой-то парень орет: — Да, я возьму одну! - На нем белая шляпа, должно быть, он - хороший парень! Мужик позади меня скрипит: — Ага, тащи сюда! Теперь я слышу, что говорят люди впереди. — Видал этого парня с короткой стрижкой? Граждане - полный улет. Слава богу, Брюс Спрингстин дер¬жит их на коротком поводке. Эй! Ходи на работу, будь тем, кого ненавидишь, лижи задницу начальству, приходи домой и напивайся, все нормально, Брюс Спрингстин написал о те¬бе песню. А если ты не встал в очередь и не работал весь день, и не возненавидел собственные потроха, Боссу будет не о чем писать, и он вылетит из игры. Гражданин и Брюс ру¬ка об руку уходят во тьму. Хотя с музыкой у него все нор¬мально. В такой ситуации я просто вижу, откуда он выплыл. Еще четыре концерта на этих гастролях. Затем назад в Лос-Анджелес на четыре недели, затем в Трентон на репетиции и новое турне. С нетерпением жду, когда можно будет сва¬лить отсюда. Калифорния - дурная шутка, отыгравшаяся на тебе. 13 февраля 1988 г. 01.07, Чикаго, Иллинойс: Мне двадцать семь лет. Сегодня вечером выступали здесь. Дей¬ствительно классно провели время. Играли полтора часа; ощущение, что десять минут. Вчера засиделся допоздна. Пытался попасть на семичасо¬вой утренний поезд, но билетов не было. Пришлось лететь. На самолет продали больше билетов, чем было мест, так что меня засунули в первый класс. Это было круто. Странно оглядываться и видеть всех этих жалких типов в общем сало¬не. Я не мог ничего с собой сделать. Все время пялился на них, а они пялились на меня. Вышел из самолета, дал по те¬лефону два интервью прямо из аэропорта. Отправился на такси в тот район, куда всегда езжу за книгами. Нашел «Гор¬дых нищих» Альберта Коссери. Оттуда - в клуб, дал два ин¬тервью. Взял себе десять минут на подготовку, вышел и рва¬нул. Дал интервью после того, как все разошлись. Это было странно. Все эти люди хотели со мной поговорить. Я подпи¬сал уже все книжки, а потом им пришлось уходить, и они точно рехнулись. Принялись хватать меня и совать мне всю эту дрянь на подпись. Черт знает что. Я так устал за последние несколько дней, что даже не хвата¬ет ясности мысли, чтобы писать. Тяжело делать интервью. Даже не знаю, сколько еще смогу это выдерживать. Нужно немного поспать. Мозги поджариваются каждый день. Я чувствую, как в кости мне вползает зверь. Мой друг вер¬нулся. Я сбрасываю эту жесткую шкуру, когда возвращаюсь сюда. Оно возвращается. Именно тогда я включен - когда зверь бежит с моей кровью. Я это чувствую, и мне так хоро¬шо. Я знал: что-то потерялось, а теперь оно вернулось. Чем дольше я вне, тем лучше получается. Забывать так легко. Когда я снова здесь, оно уничтожает меня по частям, и я ту¬пею. А жесткий блеск возвращается лишь через некоторое время. На самом деле мне нужна только музыка. Эти мои чтения - вещь хорошая, но мне нужна боль, которую музы¬ка приносит моему телу. Тогда я в лучшей форме. Трудно объяснить это другим. Я должен держаться подальше от женщин. Чем дольше я живу без секса, тем лучше. Когда я с женщиной, я слабею. Никто мне не близок, и когда я сбли¬жаюсь с женщиной, я стараюсь выпрыгнуть из себя. Я лгу самому себе, и это херня. По мне, чтобы делать то, что нуж¬но, не нужно быть близким ни с кем. Последние несколько недель меня раздражало, что у меня нет достаточного стимула. Я по-прежнему хочу вернуться в Европу на четвертый месяц турне, гаже срани. Меня не про¬веряли с декабря. Мне это крайне необходимо. Кажется, мне не следует вообще заканчивать гастроли. А если я это сде¬лаю, то должен оказаться в таком месте, где никого не знаю. Общение ослабляет меня, разбодяживает. Я не позволю ни¬кому сбить меня с пути. Я должен перечитывать свои желез¬ные скрижали, которые написал несколько месяцев назад. Они истинны. Та часть, где сказано, что работа - превыше всего и всех, даже меня самого. Миссия - вот единственное, что имеет значение. Секс, взаимоотношения - на втором месте, третьем, последнем. Работа - вот все. Я помню, как было недавно. Я был с девушкой, я сказал ей, что работа превыше всего. Она обиделась. Ну и на хуй. Жен¬щины играют в моей жизни меньшую роль, чем бывало. Как только они начинают мешать работе, они перестают мне нравиться. Они меня не знают. Никто меня не знает. Меня знает работа. Меня знает дорога. Меня знает зверь. Меня знает противостояние. Женщины отбивают у всего этого вкус, и все становится дешевкой. Недавно я был с девушкой. Отправившись на гастроли, я скучал по ней примерно день, а теперь я не думаю о ней вовсе. Пора расставаться. Завт¬ра - Мэдисон, Висконсин. Новый день. Тащите всех. Пусть уничтожат меня, пускай попробуют. Я призываю трудности. 14.40, Мэдисон, Висконсин: Приехал пару часов на¬зад. Долго ходил по улицам. Теперь я в кофейне Виктора - слушаю, как два мужика обсуждают, почему от кофе они чувствуют себя виноватыми. Я так замерз, что с трудом дер¬жу ручку. Заказал целый кофейник - с ним я смогу проси¬деть здесь дольше и хоть немного оттаять. Скоро нужно да¬вать интервью. Слишком холодно, чтобы торопиться куда-то отсюда. Глядя на ярко разодетых ребятишек из колледжа на улице, я радуюсь, что решил не ходить этим путем. Какую же все-та¬ки срань они несут - просто невероятно. Я не могу понять, как люди в таком возрасте могут говорить о такой бессмыс¬ленной ерунде. Я думал о том, что сегодня у меня день рожденья. Пришел к следующему: кому, на хуй, до этого дело? Просто еще один день. Я был в этом городе год назад и делал чтения. Завт¬ра - в Милуоки, затем в Бостон на весь остаток недели. Хо¬рошо будет перебраться в другую местность. Я на выезде уже почти две недели, а даже незаметно. Нужно смотреть в расписание интервью, чтобы понять, что сегодня за день. Мне нравится давать концерты один вечер за другим без вы¬ходных. Получается лучше и лучше, когда я даю много кон¬цертов подряд. Разбег много значит. Способствует свобод¬ным ассоциациям, и на сцене я работаю более открыто. По улице мимо шли люди, и примерно раз на квартал я слы¬шал свое имя. «Это Генри Роллинз». - «Где?» - «Здесь». - «Ух ты!» И так далее. А я уже было думал, что привык. Ока¬залось, нет, но это не достает меня, как раньше. Я понял, что в голове существует пространство, и я могу туда уходить так, что больше никто не достанет. Часто на улице я именно там. Я научился находить привольные поля на одном автобусном сиденье. Теперь в кофейня полно людей, они задевают меня хозяйст¬венными сумками. Я надеваю наушники - и меня здесь больше нет. Время от времени я поднимаю голову и вижу: все эти люди смотрят на меня так, словно хотят присесть. На хуй. Все парни похожи на Робина Уильямса. Эти «докерсы» меня убивают. Может, им требуется постоять. Может, им требуется замерзнуть до смерти. От прогулок здесь меня тошнит. Я не люблю университет¬ские города. На улицах полно людей, одетых одинаково. Будто застрял в рекламном ролике винного коктейля и не можешь найти выход. 23 февраля 1989 г. 02.56, Арлингтон, Вирджи¬ния: Долгое время не мог писать. Рука накрылась пиздой. История длинная и скучная. Не писал несколько недель. От одной мысли хуй в трубочку сворачивается. До такой сте¬пени, что даже сейчас писать не хочется. 15.02. Как я сказал, длинная и ебнутая история. Расскажу кратко. Несколько недель назад мы были в Гилонге, Австра¬лия, играли. Шел концерт - все было хорошо. Передо мной стоит парень и плюется пивом мне в лицо. После нескольких плевков мне это надоело, и я ему врезал. Кулаком в ебальник. Он упал. Дружки его уволокли. Через несколько минут он снова пришел и встал перед сценой. Вся рожа в крови. Он приподнял верхнюю губу - передних зубов как не бы¬вало. Мне поплохело. Не от того, что я дал ему в зубы, а от того, что я знал, что скоро явится полиция меня арестовы¬вать. Я посмотрел на свою руку, а там над костяшками паль¬цев - дыра, и какая глубокая, так что видно, как работает сухожилие. Я показал руку нашему барабанщику, но ему это было вообще неинтересно. Через несколько минут что-то стукнулось об сцену. Наш ги¬тарист это что-то подобрал. Зубы парня - протез. Мне-то что, еще один пьяный говнюк, плевавший мне в лицо, уничтожен, но эту штуку я все равно сохранил. Хороший суве¬нир. На следующий день у группы был выходной, а у меня - чте¬ния и интервью. Рука моя опухла, а боль становилась непе¬реносимей с каждым часом. На следующий день мы выеха¬ли в аэропорт. Рука побагровела и выглядела так, словно вот-вот лопнет. Полет был ужасен. Боль такая, что всю дорогу я то отклю¬чался, то приходил в себя. Вдобавок меня лихорадило. Примерно через четырнадцать часов я прибыл в Лос-Андже¬лес; нужно было менять австралийские деньги и заниматься прочими делами - и все это с дикой болью. Я приехал домой, и, конечно, первым делом позвонил знако¬мой девушке и назначил на тот же вечер свидание. Болван. На следующий день я поехал в больницу - вернее, моя по¬дружка, бывшая медсестра, увидела мою руку, швырнула ме¬ня в свою машину и отвезла в больницу. Я воображал, что мне вкатят дозу пенициллина, и на этом все кончится. На¬сколько может заблуждаться человек? А вот как я заблуж¬дался. Я пришел в отделение экстренной помощи, сестра бросила один взгляд на мою руку, и во мгновение ока передо мною возник врач. Сказал, что я немедленно должен заполнить бланки, поскольку нужно начинать операцию как можно скорее. Я ответил, что не будет здесь никакой операции. Он сказал, что я могу уйти и вернуться завтра, и тогда придется ампутировать мою руку, - или же можно начать сегодня, и они попытаются спасти то, что осталось от моего пальца. Это меня отрезвило, и я заполнил бланк. Через несколько минут я уже валялся на спине в одной из таких «ночнушек», в руку мне воткнули капельницу, и меня везли в операционную. В какой-то момент я пришел в себя, и появился врач - по¬смотреть, как я себя чувствую. Снял с моей руки повязку, а под ней была большая дыра. Он сказал, что ее оставят от¬крытой, чтобы рана подсохла. Затем сделал мне укол демерола, меня слегка поглючило, и я вырубился. Короче говоря, я валялся в госпитале шесть с половиной дней. В день своего рождения я пришел к выводу, что с ме¬ня довольно. Выдернул капельницу и оделся. Когда пришел врач, я предложил ему поздравить меня, потому что сегодня я ухожу домой. Он ответил, что я не пойду домой еще четы¬ре дня. Я только улыбнулся и сказал ему, что ухожу через несколько минут, и ему лучше выписать рецепт, если мне что-то понадобится. Он все понял и написал что-то на бу¬мажке. Я вышел оттуда и на следующий день поехал на гас¬троли. Мне нужно было давать концерты. Встретил свое двадцативосьмилетие, парясь на больничной койке. Слабак. На этот раз я получил хороший урок. Ни один козел не сто¬ит таких проблем. 13 февраля 1990 г. 23.50. Сан-Франциско, Кали¬форния: Я в гостях у Дона и Джейн. Дона видеть приятно, однако ситуация в доме Дона и Джейн ни к черту. Джейн пи¬лит Дона при любой возможности. Он не жалуется. Она го¬ворит ему ужасные гадости на людях. Дон старается быть невозмутимым терпеть это, но можно понять, что это очень его задевает. Они пригласили несколько человек на мой день рождения, и, наверное, все прошло хорошо. Я ценю это, но это все не мое. Нелегко находиться в комнате, где полно друзей Джейн, слу¬шать, как она кроет Дона и выставляет его посмешищем пе¬ред собравшимися и перед их дочерью. Никогда в жизни не женюсь. Когда я с ними, это напоминает то время, когда я был подростком, всю злобу, что изливалась между моими отцом и матерью. Я наблюдал за их поединками, и приходилось терпеть то же самое от их новых жен и дружков. Не на¬хожу ничего хорошего в браке. Может, мне одному и одино¬ко, но, по крайней мере, у меня есть возможность вставать и делать то, что хочу. Я буду за это держаться, пока дышу. Теперь я сижу в их комнате для гостей, пытаюсь не слишком шуметь, опасаясь пробудить гнев зверя по имени Джейн. Завтра у меня концерт в городе. Мне двадцать девять лет. Я одинок и беден и не знаю, как дальше буду удерживать вме¬сте группу и выпускать книги. Временами это все, что я мо¬гу, чтобы на распасться на части. Меня так мучает тревога, что иногда я не могу спать. Только злюсь все больше и боль¬ше, и жду, когда настанет утро, чтобы можно было присту¬пить к работе и пытаться тянуть это все дальше. К счастью, я чертовски выносливый и могу терпеть эту срань месяц за месяцем. Иногда я так устаю. Кажется, я не высы¬паюсь. Все равно мне это, похоже, не помогает. 13 февраля 1991 г. 00.34. Трентон, Нью-Джерси: Мне тридцать лет. Я в цокольном этаже дома матери Сима. Уже некоторое время не отмечаюсь в дневнике. Перегорел. Не то чтобы много чего происходило. А вот что произошло: вчера записали демо. Я не знаю, сколько песен. Сегодня я накладывал вокал. Шло быстро, просто слушал основные немикшированные треки; на мой взгляд, уже звучит хорошо. Как-то на днях давал концерт в Биг-Беэре, Калифорния. Скоро напишу об этом побольше, когда будет больше охоты писать. Женщина, о которой я писал месяцами, женщина, которая наполняла мои мысли светом, - она бросила меня ради ка¬кого-то парня. Какое унижение. Перенести это тяжело. Наверное, она мне слишком нравилась. Когда я был с нею в по¬следний раз, мне пришло в голову, что с ней так хорошо, что без нее будет очень плохо. Теперь мне уже лучше и стано¬вится лучше с каждым днем. Несколько дней назад - в про¬шлое воскресенье - я был в глубокой яме. Не помню, чтоб когда-нибудь так пресмыкался. Она уехала на месяц в Европу. Все время, пока ее не было, я думал о ней постоянно. Иногда меня поддерживали только мысли о ней. Пока ее не было, она не писала, не звонила, ни¬чего. Я три раза отправлял ей факсы. То был единственный номер, который она мне оставила. В конце концов, она вер¬нулась, на несколько дней позже. Я каждый день звонил ей домой и оставлял сообщения. Она вернулась, и мне страшно хотелось поговорить с ней, но она держалась холодно и от¬чужденно. Я знал: что-то случилось. Она сказала, что нача¬ла встречаться с этим парнем, с которым они вместе работа¬ют, она не знает, с кем из нас хочет быть, она совсем запуталась. Я еще несколько раз пытался с ней поговорить, объяснить, каково мне. Я знал, что она собирается меня бросить, я был жалок и в отчаянии. Все время, пока это продолжалось, я должен был давать концерты в Биг-Беэре. Приходилось терпеть всех этих людей, рукопожатия и про¬чую чушь. Я все время внутренне умирал. Она сказала, что позвонит мне в воскресенье утром. В конце концов, я сам до¬звонился до нее вечером и спросил, что за дела. Она по-прежнему пудрила мне мозги. Я спросил, была ли она с ним все время после того, как вернулась. Она сказала, что да. Я сказал, что она, очевидно, уже приняла решение. Так все некоторое время и продолжалось, одна хуйня. Наконец, мы по¬весили трубки. Я звонил ей потом еще, но натыкался лишь на автоответчик. Здорово же она меня обломала. Больно думать о том, как она живет с этим типом. Я знаю, что он выебет ее так же, как выебал свою предыдущую подругу- Я никогда этого не пойму. Если бы кто-нибудь мне сказал, что я приду вот к такому, я бы ответил ему, что он псих. Все то время, что мы были вместе, я считал, что мы близки, это было чудесно. Я думал, что значу для нее больше. Я ошибался. На этот раз я точно усвоил урок. Я знаю, что меня можно сломать. Я не так крут, как считал. Теперь я это вижу. На данный момент это единственная польза, которую я извлек. Теперь я знаю себя лучше и знаю, что мне нужно делать. Оно всегда ко мне возвращается. Для меня действительно нет ничего, кроме дороги и работы. Они всегда рядом. Это была ошибка - так заинтересоваться женщиной. Я кое-что понял и не должен забывать об этом. То, что случилось, должно было случиться, должно было в конце концов про¬изойти. Меня никогда не оставляют только дорога и жизнь. Единственная константа. Движение. Постоянное движение и изнурительная дорога. Жить с рюкзаком за плечами и спать на полу. Мне предназначено не выходить из бури. Теперь пора спать. Завтра ехать в город, встречаться с чело¬веком из звукозаписывающей фирмы. Еще одна встреча. Больше года всяких встреч, а у группы до сих пор нет собст¬венной студии. 13 февраля 1992 г. 15.20, Гамбург, Германия: Се¬годня второй вечер здесь. «На борту!» Мне кажется, я ни¬когда еще не играл в этом зале, только вчера. Обычно мы иг¬рали в «Марктхалле». Сегодня мне тридцать один. Не тот возраст, о котором стоит думать. Я привык считать, что мой день рожденья - интересная дата, а теперь мне все равно. Хотя я знаю, что 19 декабря 1991 года запомню навсегда. Будет странно, когда Джо уже год как умрет. Я могу лишь продолжать играть, выворачивая себя наизнан¬ку каждый вечер, а потом забываться сном. Сейчас я все время чувствую в себе это неистовство. Я не испытываю ни к кому в отдельности неприязни, но понимаю, что мне все безразлично. Я играю музыку каждый вечер просто для то¬го, чтобы наказать ее и наказать себя. 13 февраля 1993 г. 23.23. Лестер, Англия: Дон Баджима прибыл сюда благополучно, книги тоже доставлены. Сегодня вечером выступали. Дон был хорош, но он так не считает. Он начал немножко холодно, но в остальном хоро¬ший концерт для него. Я уверен, что завтра он по настояще¬му выдаст. Я доволен своим отделением. Публика была пре¬восходная, как, собственно, и все гастроли. Вчера вечером я играл спектакль под названием «Слово». Пришлось просидеть несколько часов, а потом удалось пересесть на кушетку, и мое время стали тратить какие-то те¬левизионщики. Единственный плюс - поболтаться с ребя¬тами из «Living Colour» и оторваться на Бобе Гелдофе, когда я увидел, как он ходит по вестибюлям. Его подружка Пола Йейтс оказалась в одной передаче со мной. Типичная осте¬пенившаяся «групи», абсолютная трата продуктов питания и материально-технических средств. В целом мероприятие было тоскливым, пока игравшая группа не начала говорить гадости ведущему, а он к этому оказался не готов и слетел с катушек. Моя компания делала вид, что мое появление на этом шоу - величайшее событие в мире, но вы же знаете, у них все так. Я только что приехал из Голландии и Бельгии, гастроли бы¬ли хороши, если не считать достававшей меня прессы. При¬шлось объясняться с мымрой из «Керранга!» по поводу то¬го, почему я не люблю двух ее авторов. Эти парни мелют херню, а я их на этом ловлю, и они бегут к ней жаловаться, а она раздувает из этого прямо мировой пожар. Эти люди так набиты собственным говном, что ничего вокруг не видят. Их говно не имеет ко мне никакого отношения. Я не стрем¬люсь попасть в их журнал, и не хочу ничего знать обо всех дурацких ебнутых группах, которые они туда суют. Журналу я не нравился еще до того, как она туда пришла, а теперь ей хочется меня выебать, поэтому журнал обо мне все-таки пи¬шет. С жиру бесятся, в общем. Пришлось потратить время, необходимое для редактуры, на болтовню с этим шлаком. Когда все закончилось, я отпра¬вился прямо на пять интервью, а затем на концерт. Шпарили два часа. Было неплохо. Все концерты проходили хорошо. Писать особо больше не о чем, поскольку мне уже совершен¬но по хуй банальные детали моей жизни. Так или иначе, по¬стоянно одна херня, так ну ее на хуй. И всех этих репортеров тоже на хуй. Такие жалкие - они и меня делают жалким со своей херней. Не следует позволять им доставать меня и утя¬гивать на дно. Стоило посмотреть на эту маленькую свинью с ее диктофоном, пока мы ехали. Я занимаюсь довольно от¬вратным бизнесом. Получаю все, чего заслуживаю, а заслу¬живаю все, что получаю. Мне тридцать два. 13 февраля 1994 г. 01.24. Саппоро, Япония: Мне тридцать три. Концерт сегодня был ничего. Потренировался в плохоньком спортзале. Надеюсь, дальше на гастролях спортзалы будут получше. Утром вылетаем в Фукуоку, дале¬ко к югу отсюда. Надеюсь, там будет намного меньше снега, чем здесь. Слишком устал писать дальше. 23.29. Фукуока, Япония: Дорога сюда заняла весь день. Вылет отложили из-за всех этих снегопадов примерно на три часа. Тоска смертная. Очень плохо, что мы не смогли получить ангажемент на сегодняшний вечер. Приятно было улететь от этого снегопада. Сегодня ходили в «Тауэр» и кое-что нашли. Вышли оттуда и перекусили, а потом остальные пытались затащить меня в бар с караоке и зря потерять время. Я оттуда вылетел пу¬лей. Теперь я здесь, и мне тоскливо. Похоже, просто раньше лягу спать, вот и все. Я готов уехать. Не думаю, что я в наст¬роении для этой фигни. Может, просто пройдет, и все. Оста¬ток гастролей буду держаться сам по себе. Остальным я чу¬жой, и мне одному гораздо лучше. Хорошо бы, чтоб события так на меня не действовали. Похоже, я слишком выебываюсь насчет всего. Не знаю, что делать, чтобы мне стало лучше. 13 февраля 1995 г. 01.18. Лос-Анджелес, Кали¬форния: Мне тридцать четыре. Сегодня вечером позвонил Иэн. Приятно было с ним поговорить. Он такой же, как все¬гда, - пашет вовсю и делает музыку. Один из тех моих ред¬ких знакомых, кто никак не ебнут. Делает свое дело и нико¬го не дергает. Он сильно на меня влияет. Я бы хотел больше походить на него во многом. У него хорошая хватка. В свой день рождения у меня обычно депрессия. Я не наст¬роен завтра работать. Но мне больше нечего делать. Уже по¬здно, но не настолько. Думаю, нужно постараться лечь по¬раньше, чтобы не быть разбитым поутру. Я просмотрел дневники, чтобы понять, где я был в это время в прошлом году. В прошлом году была Япония. Я сидел в но¬мере - усталый, голодный и вымотанный перелетом. Годом раньше - Англия. Наверное, единственная возможность пу¬тешествовать, и все-таки получать кайф - делать это соло. Если б я смог снова настроить себя на чтения, это был бы вы¬ход. Меня беспокоит, что я никогда не смогу больше делать такие выступления. Хочется, но у меня проблемы с людьми. Очень жаль. Если бы я мог выехать и несколько недель давать концерты, тут все было бы хорошо. Здесь всегда не хватает денег. Столько всего хочу сделать, но всегда мешают деньги. Странно жить в собственной квартире столько дней подряд. Я так долго не был в одном месте с 1983 года. Странно три ме¬сяца спать на одном и том же матрасе. Я не хочу размягчить¬ся. Я не хочу потерять жесткость. Это все, что у меня есть. 13 января 1996 г. 08.30. Альбукерк, Нью-Мекси¬ко: В аэропорту по дороге в Сиэттл на сегодняшний вечер¬ний концерт. Вчера вечером было довольно неплохо. Хотя все несколько затянулось - три часа сорок минут. Но никто не ушел, и публика вроде как врубалась. Хотя на этих вы¬ступлениях мне приходится меньше говорить. Сегодня мне исполнилось тридцать пять лет. Возраст для ме¬ня не имеет значения. Конечно, время летит быстро. Сего¬дня вечером я буду записывать концерт и надеюсь, он полу¬чится хорошим, так что я смогу выпустить его как живую запись. Давно уже таких не выпускал. Я люблю этот город, но добраться до Сиэттла - лучше. Что-то в этой части Америки внушает тоску. Наверное, просто¬ры. Юноша-организатор вчерашнего вечера сегодня утром довез нас до аэропорта. Он немножко нытик. Рик, менеджер тура, сказал, что потребовалось звонить несколько раз, что¬бы он проснулся. В прошлом году в свой день рождения я был в Лос-Андже¬лесе. Обычно мне звонит Иэн. Концерты прошли хорошо, но из-за них я тупею на писательском фронте. Вечером от¬даю им все что есть, а когда приходит время думать о чем-то другом, не остается энергии, чтобы эти мысли донести. Интересно, живу ли я как тридцатипятилетний? Наверное, я родился, когда столько же было моему отцу. Не думаю, что когда-нибудь я стану человеком семейным. Похоже, я буду выглядеть очень жалко - в сорок лет и с группой на гастро¬лях. Пора задуматься о том, куда двигаться дальше. Слыша музыку, которую группы делают сейчас, я понимаю, что пора уходить. Для таких, как я, все кончено. Людям хочется слу¬шать музыку слабее, неинтереснее. Мне по-прежнему нра¬вится играть и прочее. Я просто думаю, что не хочу оставать¬ся и слушать эту музыку, а также неким образом быть ее частью. А частью ее становишься, хочется тебе этого или нет. 15.33. Сиэттл, Вашингтон: В нашем обычном отеле «Эджуотер». Мне бесплатно дали десерт в ресторане отеля, и народ присылал подарочные купоны в местные и нью-йоркские музыкальные магазины. Все очень приятно. Люди очень классны со мной. Я с нетерпением жду сегодняшнего выступления. Похоже, я на подъеме. В этот раз осталось немного. К концу недели вернусь в Нью-Йорк. Следующие несколько дней будут до¬вольно тяжелыми, со всеми этими переездами. Весь выход¬ной день мы будем ехать в Мемфис. Железо Я полагаю, человек определяет себя, изобретая себя заново. Не быть, как твои родители. Не быть, как твои друзья. Быть самим собой. Высечь себя из камня. Когда я был молод, я не сознавал себя. Я был продуктом всех школьных насмешек и угроз вкупе со страхом и униже¬нием, которые терпел регулярно. В школе мне твердили, что ничего путного из меня не выйдет. Один «инструктор», как их называли, завел привычку обзывать меня «помойным ве¬дром» перед другими учениками. Я не мог ответить инструк¬тору, так что приходилось сидеть смирно и проглатывать. Через некоторое время я начал им верить. Я был костлявым спасти ком. Когда меня дразнили, я не бежал домой, плача и не соображая, за что. Я очень хорошо понимал, почему они на меня наезжают. Я был тем, на что следовало наез¬жать. На физкультуре надо мной смеялись и никогда не брали в команду. Я неплохо боксировал, но лишь потому, что ярость, переполнявшая все мое сознательное существо, де¬лала меня диким и непредсказуемым. Я дрался со странным ожесточением. Все думали, что я псих. Меня не уважали, а присматривались, что я еще выкину. Я ненавидел себя. Хотя сейчас это и глупо, мне во всем хо¬телось походить на своих школьных товарищей. Я хотел раз¬говаривать, как они, одеваться, как они, нести себя с той лег¬костью, что свойственна каждому, кто может пройти по коридору на перемене и знать, что его не поколотят. Когда я смотрел в зеркало и видел свою бледную физиономию, больше всего на свете мне хотелось превратиться в одного из них - хоть на одну ночь, чтобы понять, каково оно, их ка¬залось бы прочно установившееся счастья. Шли годы, и я научился держать все это в себе. Я общался только с несколькими мальчиками из нашего класса, кото¬рые были неудачниками, вроде меня. До сего дня некоторые из этих мальчиков - самые клевые люди, которых я когда-либо знал. Если общаешься с мальчишкой, которому уже не¬сколько раз совали голову в унитаз, ты обращаешься с ним так, как хотел бы, чтобы обращались с тобой, - у тебя по¬явится хороший друг. Некоторые из этих ребят были очень забавны. Они подмечали то, чего более ухоженные, более лощеные наши соученики не замечали вовсе, знали то, чего остальные век не ведали. И они уж точно были остроумнее. У меня был учитель истории. Звали его мистер Пепперман. Я его вечный должник. Мистера Пеппермана уважала и поба¬ивалась вся школа. Абсолютно прямой, атлетически сложен¬ный ветеран Вьетнама, он редко разговаривал вне уроков. В его классе никто не разговаривал без разрешения, кроме одного случая. То был староста класса. Мистер Пепперман поднял его за лацканы пиджака и прижал к доске. И всё - все разговоры на уроке закончились. Опоздания - тоже. Однажды в октябре мистер Пепперман спросил меня, подни¬мал ли я когда-нибудь тяжести. На самом деле он сказал что-то вроде: «Ты костлявый замухрышка. Попроси мамочку в эти выходные сводить тебя в "Сирс" и купить комплект стофунтовых гирь с песком, и притащи их домой. Я покажу тебе, что с ними делать». Это вдохновляло. Не самый приятный человек в моей жиз¬ни, но, по крайней мере, достаточно неравнодушный, чтобы мне это сообщить. Поскольку так сказал мистер Пепперман, я повиновался. Я прикидывал, что он швырнет меня через весь класс об стенку, если я ослушаюсь. Кое-как я приволок гири в подвал и оставил на полу. Я ждал понедельника со странным нетер¬пением, которого никогда за свою короткую жизнь раньше не чувствовал. Он велел мне купить гири, и я сделал это. Что-то определенно должно было произойти. Наступил понедельник. После уроков он вызвал меня в свой кабинет. Спросил, купил ли я гири. Я ответил, что да. Того, что он сказал мне потом, я не забуду никогда. Он сказал, что по¬кажет мне, как правильно поднимать тяжести. Назначит мне программу и будет неожиданно лупить меня в коридоре в солнечное сплетение. Когда я смогу принять удар, я пойму, что чего-то достиг. Я не имею права смотреть на себя в зер¬кало, чтобы увидеть какие-то перемены, а также не должен говорить никому в школе, чем я занимаюсь. Я пообещал. Мне следовало записывать все тренировки и вес, который я под¬нимаю, чтобы отслеживать свой прогресс, - если, конечно, я смогу добиться какого-то прогресса. График я должен был представить ему к рождественским каникулам. Раньше меня так никто не поддерживал. Он сказал, что это будет нелегко, но мне понравится, если я отдамся этому делу полностью. В тот вечер я пошел домой и сразу начал выполнять упраж¬нения, которым он меня научил. Было трудно установить, ка¬кой вес подходит для каждого, но скоро я втянулся. Я не пропускал ни одной тренировки. Иногда качался дваж¬ды. Я сразу заметил, что мой аппетит невероятно вырос. Я ел по меньшей мере вдвое больше обычного. Казалось, что я никак не могу наесться досыта. Когда я приезжал к от¬цу на уикенды, он звал меня «саранчой». Проходили недели, и время от времени мистер Пепперман валил меня с ног в коридоре. Учебники разлетались по все¬му полу. Остальные не знали, что и думать. Все это время я хранил великую тайну, которую не доверял никому. Я не смотрел на себя в зеркало. Я выполнял все, что он говорил мне, до последней буквы. Недели шли, и я неукоснительно добавлял вес на свою штангу. Я чувствовал, как во мне рас¬тет сила. Экзамены начались сразу перед рождественскими канику¬лами. Я шел в класс, как вдруг невесть откуда возник мистер Пепперман и ударил меня в грудь. Я рассмеялся и пошел дальше. В тот день мистер Пепперман велел мне назавтра принести график. Мне по-прежнему было запрещено смот¬реть на себя или рассказать кому-то о своих тайных трени¬ровках. Я принес график, он просмотрел и спросил, дейст¬вительно ли я так далеко зашел. Я сказал, что да, - я гордился собой и никогда в жизни не чувствовал ничего по¬добного. Он сказал, что теперь я могу пойти домой и посмо¬треть на себя в зеркало. Я примчался домой, нырнул в ванную и снял рубашку. Сна¬чала я себя не узнал. Мое тело приобрело форму. Это было именно тело, а не просто какое-то вместилище желудка и сердца. Разница потрясла меня. Ничего никогда не прино¬сило мне такого чувства свершения. Я выглядел и чувство¬вал себя сильным. Я что-то сделал. Никто не сможет отнять это у меня. Никто не сможет сказать мне дерьмо. Прошли годы, прежде чем я полностью осознал ценность уро¬ков, полученных от Железа. Только ближе к тридцати годам я понял, что получил величайший дар. Я научился применять себя, понял, что ничто хорошее не приходит без труда и неко¬торого количества боли. Когда вкладываешься полностью, ле¬тят клочки, что бы ты ни делал. И сегодня все уроки, которые я усвоил в пятнадцать лет, по-прежнему со мной. Я раньше считал Железо своим врагом, думал, что пытаюсь поднять то, что никак не хочет подниматься. Мой триумф за¬ставил Железо делать то, чего хотел я, а не оно - двигаться. Теперь я вижу, что был неправ. Когда Железо не желает сни¬маться с крюков, это самое большое добро, которое оно может тебе принести. Оно старается помочь тебе. Если бы оно взле¬тело наверх и пробило потолок, оно не принесло бы тебе ни¬какой пользы. Оно никак не сопротивляется тебе. Так Железо с тобой разговаривает. Моя победа - в том, чтобы работать с Железом. Материал, с которым работаешь вместе, - тот, на который ты станешь походить. А тот, против которого ты ра¬ботаешь, будет всегда работать против тебя. Даже ты сам. Я привык сражаться с болью тренировками. Моя победа - в том, чтобы принять ее и пронести ее насквозь. Ненавидя боль и то, что она со мной делала. Недавно урок мне стал ясен. Боль, наполняющая мое тело, когда я бью по ней, - не враг мне. А призыв к величию. Мое тело пытается поднять меня выше. Люди обычно доходят лишь до какого-то предела. Боль не пускает их дальше. Боль бывает разной. Изменяться - бо¬лезненно. Тянуться за тем, чего не можешь достать, - болезненно. Боль не должна быть средством устрашения. Боль может вдохновить тебя превзойти самого себя. Когда име¬ешь дело с Железом, нужно быть внимательным, чтобы пра¬вильно понимать боль. Ты должен отыскать правильного на¬ставника, и тогда не повредишь себе. Больше всего травм, связанных с Железом, - от эго. Попробуй поднять то, к че¬му не готов, и Железо преподаст тебе урок выдержки и са¬моконтроля. Однажды я несколько недель поднимал вес, к которому мое тело было не готово, а потом несколько ме¬сяцев не поднимал ничего тяжелее вилки. Это мое эго заста¬вило меня пытаться поднять вес, до которого оставалось еще несколько месяцев тренировок. За много лет я объединил медитацию, действие и Железо в единую силу. Только когда тело сильно, на ум приходят сильные мысли. Что человек будет делать со своей силой, зависит от его личности. Разница между каким-нибудь гро¬милой, который наезжает на людей и делает им больно, и мистером Пепперманом и его даром силы. Сила, которой я достиг объединением усилий, описанных выше, - это Отношения Единства. Ум и тело развивают си¬лу и растут неким единством. Сходи и убедись сам. Самое сильное число - Единица. Стремись к Единице и поймешь силу и равновесие. Я не верю слабаку, когда он говорит, что по-настоящему се¬бя уважает. Я никогда не встречал поистине сильного чело¬века, который не уважал бы себя. Мне кажется, тут за само¬уважение сходит обычное презрение, направленное внутрь и наружу. Я обнаружил, что Железо - великое лекарство от одиноче¬ства. Одиночество - желание того, чего у тебя нет. Ты мо¬жешь быть одинок по бесконечному числу вещей, людей, чувств - по всему, что своим отсутствием создает у тебя в жизни пустоту. Иногда твоему одиночеству не к чему при¬лепиться. Ты просто одинок, раздавлен. Железо может вы¬тащить тебя, когда все остальное провалилось. И ты пой¬мешь, что ты сам себя вытащил. Одиночество - это энергия. Дьявольски сильная. Люди убивают себя, заболев одиночеством. Спиваются до самых половиц. Как угодно са¬моразрушаются, лишь бы побороть свое одиночество. Оди¬ночество реально. Энергия тоже реальна. Я не могу понять, в чем польза саморазрушения ради того, чтобы почувство¬вать себя лучше. Если человек применяет всю эту реальную энергию для разрушения себя, разве невозможно направить ее на нечто позитивное для преодоления одиночества? Мои разум и тело деградируют, когда я провожу время вда¬ли от Железа. Я оборачиваюсь против самого себя и скаты¬ваюсь в глубокую депрессию, от которой не способен дейст¬вовать. Тело отключает разум. Железо - лучший антидепрессант, который я отыскал. Нет лучшего способа победить слабость, чем сила. Бей вырождение рождением. Как только разум и тело просыпаются и осознают свой ис¬тинный потенциал, назад, во многом, пути уже нет. Ты мо¬жешь не помнить, когда начал тренироваться, но ты запом¬нишь, когда остановился, и ты не сможешь оглянуться с радостью, поскольку будешь понимать, что лишил себя самого себя. Железо всегда будет впаривать тебе реальность. Ты работа¬ешь четко и терпеливо, придерживаешься правильной дие¬ты - и ты станешь сильнее. Какое-то время не тренируешь¬ся - и мускулы слабеют. Ты получаешь столько, сколько вложил. Ты постигаешь процесс становления. Жизнь способна лишить тебя рассудка. То, что сейчас проис¬ходит, - просто какое-то чудо, если ты не псих. Люди отде¬лились от собственных тел. Я вижу, как они перемещаются из офисов в машины и оттуда домой. Они постоянно под стрессом. Они теряют сон. Их эго дичают. Их начинает моти¬вировать то, от чего в конечном итоге их разобьет паралич. А тебе этого терять не нужно. Ты и не потеряешь. Нет оправ¬дания истерике на рабочем месте, в школе, где бы то ни бы¬ло. Нет необходимости в кризисе среднего возраста. Тебе необходим лишь Железный разум. Железо всегда с тобой. Друзья приходят и уходят. В мгнове¬ние ока человек, которого, как тебе казалось, ты знаешь, мо¬жет превратиться в того, с кем ты больше не сможешь рядом стоять. Увлечения приходят и уходят, почти всё приходит и уходит. А Железо есть Железо. Двести фунтов - всегда двести фунтов. Железо - великий ориентир, всезнающий источник перспективы. Оно есть всегда, как путеводная звезда в непроглядной тьме. Я пришел к выводу, что Желе¬зо - мой лучший друг. Оно никогда не устраивает истерик, не сбегает от меня и никогда мне не лжет. Солипсист Я начал писать это в 1993 году, когда жил в Нью-Йорке. Рукопись я закончил летом 1996-го. Однажды ночью я читал словарь, и мне попалось слово «солипсист». Оно определило все настроение этой работы. До сих пор она у меня самая любимая. Удавка крови остановит жизнь в надежде. Когда ты слышишь крики из коридора, не пугайся. Я просто пытаюсь выгнать призраков из своих потрохов, избивая себя кулака¬ми. Когда ты готовишься ко сну и слышишь странный рык из-за стены, не думай, что тебе грозит опасность. Это просто я пытаюсь уговорить свои кровяные тельца застрелиться в по¬рядке самообороны. Я весь набит стеклом и воспоминания¬ми, и мне от них больно. Я тут выкармливаю шрамы. Один мо¬гу продать тебе недорого. Завернись в него, как в щит. Надень мою боль, и она не впустит чужую. Возможно, так мир не пре¬вратит твой разум в бойню. Если ты обнаружишь, что все зер¬кало в ванной в крови, не беспокойся. Это просто я, а я могу принять много боли. У меня хорошо получается. У меня пло¬хо получается все остальное. Каждую ночь я срезаю свое ли¬цо и делаю маски. Хочешь одну? Ее можно носить на улице, и никто не узнает, что ты - это ты, а ты сможешь быть собой вместо того другого, которым притворяешься, когда вокруг люди. Маска даст тебе свободу. Возьми мою боль. Пользуйся моей трусостью. Если ты заплатишь за мою квартиру на сле¬дующий месяц, я отрублю себе одну руку, и ты сможешь ею кого-нибудь убить. Оставь ее на месте преступления, и тебя не поймают. Используй меня. Я себе бесполезен. Я не знаю, почему я думаю о тебе именно сейчас. Конечно, я с кем-то другим. Она лежит рядом хо¬лодная. Она мертва уже несколько часов. Сегодня утром мы вломились сюда, и никто не знает, что мы здесь, поэтому, когда я сегодня вечером уйду, ее никто не найдет еще довольно долго. Я уже почти забыл о ней, хоть ее тело и лежит здесь. Я не убивал ее. Она сама себя убила. Я встретил ее вчера на бульваре. Она ничего для меня не зна¬чит. Значишь ты. Она мертва, ее больше нет, вдо¬бавок она совсем чужая. А ты никогда не была мне чужой. Мне всегда казалось, что тебя знаю. Ты меня не хотела, и я долго злился, но теперь я понимаю: ты никак не могла быть с таким, как я. Еще я знаю, что ты не испытываешь ненависти ко мне. Я не видел тебя много лет, но всегда о тебе думаю. Я надеюсь, ты жива. Я не знаю никого, кто знает тебя. Нынче я живу довольно быстро, но все равно думаю о тебе. Я приехал к друзьям в Портленд. Взял такой необходимый отгул от изнуритель¬ной работы в Лос-Анджелесе, где я редактор развлекатель¬ного журнала, о котором слишком стыдно здесь упоминать. Я надеялся, что работа окажется временной, но порой чув¬ствовал: мне сильно повезло, что у меня в этом городе вооб¬ще есть работа. Один из моих друзей устроил небольшую ве¬черинку, и я, конечно, заявился на нее. Народу было немного, около двадцати человек. Намного меньше, чем вы¬пендрежные празднества, к которым я никак не могу при¬выкнуть на юге, на моей новой, загаженной смогом родине. Когда я вошел в комнату и увидел ее, я влюбился сразу же. Пришлось весь вечер сдерживаться - я был единственным человеком, знавшим об этом. Пытался с ней заговорить, но ей это было неинтересно. Мужество быстро покинуло ме¬ня, и я оставил ее в покое. Она ушла в середине вечеринки. Я спросил о ней хозяйку, но она не знала - и никто больше не знал. В ту ночь я думал о ней, пытаясь заснуть, а потом решил, что лучший способ с этим справиться - забыть о ней и двигаться дальше. Шли дни, и только поэтому я мог не думать о ней постоянно. Спустя несколько месяцев я по-прежнему думал о ней и об ее загадочном исчезновении. Представьте мое удивление, когда я встретил ее на улице прямо возле моей конторы. Я поздоровался и спросил, по¬чему она ушла с вечеринки так рано. Она лишь пожала пле¬чами. Я не стал интересоваться, как она здесь очутилась, - я не мог оторвать взгляда от ее глаз и губ. Я спросил, в горо¬де ли она живет, и она ответила: «Я переезжаю». Я спросил ее, можно ли ее куда-нибудь пригласить, и она сказала, что да. Она сказала, что будет ждать меня в ресторане, перед ко¬торым мы сейчас стоим, в семь часов, и быстро ушла. Я так и не узнал, как ее зовут, и теперь припоминаю, что она ни разу не улыбнулась. Пять часов до свидания тянулись бесконечно. Я не мог по¬верить, что встретился с ней снова. Шансов на это почти не было. Я даже задумался обо всяких глупостях, вроде судьбы и кармы. В семь часов она стояла там же, где мы с ней встретились ут¬ром. Я спросил, как ее зовут, и она ответила - Луиза. Мы вошли и сели за столик. Когда еду заказали, я попытался разговорить ее, но она отвечала односложно. Она работает с видео, но больше она не сказала мне ничего. Я спросил, где она живет, и она ответила, что думает о переезде в Сан-Франциско или Лос-Анджелес, но где живет, не сказала. У меня она ничего не спрашивала, поэтому я сам стал о себе рассказывать, а вы знаете, как быстро можно похоронить себя в глазах человека, который молча смотрит на вас. По су¬ществу, все это ни к чему не приводило. Я хотел сказать ей, что постоянно думал о ней с того самого вечера, когда уви¬дел ее впервые, но я не мог подобрать слов. Просто не мог набраться смелости и поставить в дурацкое положение де¬вушку, которую пригласил на это почти немое свидание. Она извинилась и сказала, что ей нужно в дамскую комнату. Я решил, что когда она вернется, я расскажу ей все, что мне пришлось испытать. Я выжму из нее хоть какую-то реакцию своей страстью и искренностью. Звучало слабовато, но ни¬чего другого мне не оставалось. Так что я ждал. Через двад¬цать минут я спросил официанта, не видел ли он ее. Он от¬ветил, что видел - видел, как она вышла из ресторана сразу после того, как встала из-за стола двадцать минут назад. Я расплатился и ушел. Ладно, скажите, что вам не хочется, чтобы мой рассказ на этом кончался, вы действительно мне сочувствуете и хотите знать, что я сделал дальше. Скажите, что вам хочется, чтобы я сел в машину и долго и упорно ездил по улицам, высматри¬вая ее. Скажите, что для вас все это что-то значит. Скажите, что вы не смеетесь надо мной. Прошу вас, не смейтесь. Выгуливай пустоглазого и дальше. Первое мое чув¬ство, которое я ощутил своим, пришло, когда я мальчишкой ехал ночью на своем велике. Мне было хорошо от шелеста шин и свиста ветра в ушах. Я был силен, и никто не мог ука¬зывать мне, что делать. Я замечал, что все ребята вокруг ме¬ня - всегда с другими ребятами. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь из моих ровесников гулял один. Я ненавидел мальчишек своего возраста. Они дразнили и били меня. Пе¬реносить унижение было тяжело. В конце концов, я научил¬ся втягивать этих ребят в свою неистовую ярость, и они все¬гда об этом жалели. Я понял, что когда нечего терять, силы много. Я рано понял, что навсегда останусь посторонним. Я понял это к двенадцати годам. Я стал думать о себе как о человеке с другой планеты. С воз¬растом моя ненависть к людям становилась все сильнее, и я все больше понимал, каков мир и насколько все-таки люди слабы. К шестнадцати я покончил с родителями - я просто слушал их, чтобы знать, что им говорить, а чего не говорить, чтобы легче было обводить их вокруг пальца. Я не пытался делать того, от чего бы они мной гордились. Я считал их про¬сто людьми, с которыми я живу, пока не сбегу, - не более того. Я не хотел ничего понимать в их жизни, и до сих пор я не знаю о них ничего, кроме того, что понял подростком. Я даже не знаю, когда они умерли. Шли годы, и я все дальше отходил от своих родителей и со¬учеников. Немного приближали меня к ним только поиски женщин. Я всегда чувствовал, что женщинам место среди них, на их планете, и они хорошо видят, что я большую часть времени я провожу наедине с собой. Мои обществен¬ные навыки были почти нулевыми, если не считать тех, что я приобрел, смотря телевизор. Я знал, что жизнь не такова, но пытался перенять хладнокровие тех людей, которых ви¬дел на экране. А поэтому люди отдалялись от меня все больше. Когда я повзрослел и начал жить самостоятельно, я остался одиночкой. Чем старше я становился, тем естественнее это казалось. Когда я хожу один по улицам, ветер все так же свистит у меня в ушах, как двадцать лет назад, когда я ехал на велике. А если рядом люди, этого ветра я не слышу. Но¬чи, проведенные с кем-то, для меня потеряны. Шли годы, менялись работы и адреса. Меня носило по всей Америке, я не останавливался на одном месте больше, чем на год. Рубцы на моих бровях и костяшках пальцев стали глубокими морщинами на лице и руках. Я научился забывать. Научился слышать свист ветра в ушах даже на работе в экспедиции какой-нибудь захезанной фа¬брики. Я всегда жил один. Женщины появлялись редко и ис¬чезали быстро. Через некоторое время я перестал искать общества других и только размышлял об этом, бродя ночами по улицам. Несколько раз в неделю я ужинаю в одном ресторанчике. Обычно здесь за угловым столиком сидит человек и читает книгу или газету. Однажды вечером он подошел к моему столику и сел напротив. Он перегнулся через стол и посмотрел мне в глаза. Я понял, что он хочет сообщить мне то, что знает по собственному опыту. Что бы он ни намеревался сказать, говорить он будет о том, что пережил, что переживает, и что обречен пережи¬вать. Я заметил боль в его лице, пока он пытался подобрать слова. Он откинулся назад, отвел глаза и глубоко вздохнул. Он заговорил быстро и тихо. «Я много раз видел вас здесь. Я скоро отдам концы. "Эйджент Орандж" глубоко проник в мои легкие, но мне по хуй. Вы морпех?» Я покачал головой. «Не важно, на хуй. Вот». Он протянул мне листок бумаги и воинскую медаль. Я посмотрел на медаль - то было «Пур¬пурное Сердце». Он взглянул на нее и улыбнулся. Потряс головой, снова сказал «на хуй », поднялся и быстро, без ог¬лядки вышел из ресторанчика. Я прочел то, что было на бу¬мажке. Синей шариковой ручкой, не особо разборчиво. Это может оказаться для вас утешением... Вы всегда будете один. Переполненные комнаты, оживленные улицы, неважно. Ваше уединение будет с вами по¬всюду. Круглый год вы будете просыпаться по утрам один и ложиться спать один. Пройдут годы, и вы уви¬дите, как ваше тело медленно подвергается разру¬шительному действию времени. Конечно, на вашем пути периодически будут встречаться женщины. Будьте уверены, все эти связи останутся кратковре¬менными. Если вы сразу же не отвлечетесь и не ста¬нете отчужденным, достаточно скоро вы обнаружите, что полны презрения, реального или воображаемо¬го. Вы слишком много видели. Вы знаете не то. Опыт - проклятье в красивой одежде. У высшей власти есть цена. И цена эта - безмолвие истины. Призраки не уходят, отзвуки не умирают. Они знают вас лучше, чем кто-либо живой. Пока вы не прекра¬тите бороться с реальностью своей жизни, вы будете ночи напролет искать того, кто мог бы разделить с вами одиночество. Вы не встретите равного себе, потому что у вас его нет. Вам только еще раз напом¬нят о вашем недовольстве, а отсюда - ваша опусто¬шенность и презрение в близком общении с други¬ми. Вы уникально ущербны. Именно шрамы не отпускают вас от того, что вы знаете, от того, что вы есть. Чем скорее вы научитесь принимать свою судь¬бу, тем лучше. Время проходит легче, если прекрати¬те изводить себя. Я знаю, каково это временами, по¬верьте, никто не понимает этого так, как мне подобные - проклятые и знающие о своем прокля¬тье. А в моем обществе утешения вы не найдете, по¬скольку роднит нас Бездна, в которую навсегда за¬бросила нас жизнь. И вы знаете, что там вы будете всегда брести один. Это болезнь жизни. Это шутка, что жизнь разыгрывает с нами. Загляните поглубже, и пожалеете навсегда. Я знаю, что вы знаете всю эту дрянь. Я тяну этого засранца с собой на дно. На хуй! Подписи не было. Доев, я оставил записку и медаль на сто¬ле. Мне по фиг. Я не видел больше этого человека. Я на¬учился забывать. Я забываю все так же быстро, как узнаю, и в каждый миг времени я на самом деле знаю не особо мно¬го. Нет ничего и никого, что я хотел бы знать. Я не обдумываю великие загадки жизни. Не думаю, что они вообще есть, а если есть, так что ж. Я не думаю, когда мне предстоит уме¬реть. Я не читаю книг, не смотрю телевизор, не хожу в кино. Я только работаю, гуляю и сижу. Я не чувствую той ненави¬сти к людям, как прежде. Не помню, когда перестал. Я не по¬мню, когда я перестал чем-либо гордиться или ощущать пре¬восходство над другими. Я никому не говорил, что люблю их, кроме своих родителей, а сказал я им тогда лишь потому, что они мне так сказали, и я решил, что фразу бы неплохо повторить. Я ничего не чувствовал, когда говорил это. Лю¬бовь никогда не казалась мне необходимостью. Я просто двигаюсь, живу дальше. Наблюдаю смену времен года, про¬хожу мили, переживаю время. Не искалеченный - недееспособный. Во сне я умер и вернулся в виде кирпича. Да, кипича. Кирпич, в который я воплотился, заложен в стену, построенную в 1951 году. Открытой стороной кирпич обращен к окну женщины, которую я люблю, но она бросила меня несколько лет назад. День за днем я смотрю в ее комнату, смотрю в ее жизнь. Вижу, как она приходит и уходит. Вижу ее с разными мужчинами. Я не могу окликнуть ее, не могу пошевелиться. Я вмурован в це¬мент. Я могу только молчаливо и неподвижно смотреть. Я вижу ее одну. Вижу, как она плачет, обхватив голову рука¬ми. Я вынужден смотреть неотступно. Иногда она выгляды¬вает из окна и смотрит прямо на меня. Мучительно смотреть ей прямо в глаза и знать, что она меня не видит, она видит только стену. Временами она исчезает на несколько недель, и я гадаю, где она. С кем она. Я жду. Все остальные кирпи¬чи - просто кирпичи, они не умеют разговаривать, они во¬обще ничего не делают. И лишь из собственного недоволь¬ства я полагаю, что я жив. У меня нет рук и ног. Я не чувствую ни жары, ни холода. Я никогда не сплю. Не испы¬тываю голода или жажды. Мое лицо - небольшой прямо¬угольник гладкой красной глины, безымянный. Иногда я думаю, что я человек, которому просто снится, что он кирпич, но дни идут, и я убеждаюсь, что я и в самом деле кирпич, вделанный в большую стену. А однажды она уезжает. Дни складываются в месяцы, и вскоре со дня ее отъезда проле¬тает год. Все это время я лишь думаю, изобретаю всякие способы ее возвращения - на мой взгляд, потенциально возможные. Проходит пять лет. Мой ум начинает помрачать¬ся. Я смотрю на белок и птиц на дереве слева от себя. Вижу, как въезжают и выезжают семьи. Вижу несколько дорожных происшествий и одно ограбление. Вижу, как желтеют и па¬дают с деревьев листья. Но по ночам, когда все стихает, я ду¬маю о ней. Она где-то. Я здесь. Всегда здесь. Не жду, я про¬сто здесь. Прошу вас, не дайте моей жизни пройти мучительно и нетронуто. Прошу вас, помогите мне избежать трагедии самого себя. Я представляю свое лицо: искажен¬ное агонией, с безумными глазами, застывшим в безмолвном крике ртом. Навсегда неспособный сказать правду. Навсег¬да пойманный в ловушку, заключенный в твердой черной вечности. Замурованный, немой, такой же, как сотни других, симметрично уложенных вокруг меня. Барабаны, из человеческой кожи, натянутой на ребра, по ним бьют отрубленными руками. Бьют всю ночь, отдавая дань всеистребляющему, все¬поглощающему голоду любви. Танцоры вопят, когда плоть сползает с костей. Они бросаются вперед, умоляя о вымирании. Я чувствую, как кровь покидает мое тело. Я лежу на тротуаре, и вокруг моего туло¬вища быстро растекается лужа. Я слышу гул трассы и вижу, как надо мной склоняются люди. Они говорят обо мне, но никто не говорит со мной. Мне холодно и одиноко. Мину¬ту назад я шел. Услышал выстрелы, и что-то бросило меня на землю. Я умираю? Да, я умираю. Я чувствую, как жизнь по¬кидает меня. Странно, что посреди всего этого гомона и суе¬ты мой разум ясен, а мои мысли спокойны и рациональны. Я могу думать только о тебе. Обо всем, чего я тебе не сказал, о том, как много ты для меня значишь. Я не знаю, почему эти мысли приходят ко мне так ясно только сейчас. Грустно, что ты никогда не узнаешь об этих моих мыслях. О том, что я чув¬ствую, вдыхая запахи автомобильных выхлопов и крови. Мне только что пришло в голову, что я вдыхаю запах собст¬венной крови. Конечно, ты рано или поздно узнаешь о моей смерти, но не об этих мгновеньях. Должен сказать тебе, я всегда боялся исступления, с которым тебя любил. Оно со¬крушало меня. Я думал, что оно - за пределами понимания, а потому и молчал. Мне казалось, его сила затмевает ме¬ня, - настолько, что боялся его и боялся тебя. Такой силь¬ной и чистой была эта страсть, что она выходила наружу чи¬стым ядом. Я знаю: ты всегда будешь думать, что я тебя ненавидел. Если бы ты знала, как ошибалась. Я помню, как от одного взгляда на тебя я впадал в такую слепую и раска¬ленную ярость, что я раздирал себя до крови, бил себя по лицу и плакал. Я помню, как видел тебя в последний раз - несколько месяцев назад. Ты была так добра, а я - мрачен и угрюм. Только так я мог сдержаться. Роза, стиснутая в ку¬лаке. Если б я не ушел сразу же, лишь кратко тебе ответив, я оказался бы у твоих ног и молил бы о соизволении остаться с тобой рядом навсегда. Только здесь мне всегда хотелось быть. Для меня ты больше чем женщина. Ты создание красо¬ты, существо высшего порядка. Я умру, зная, что никто ни¬когда не будет любить тебя так, как я любил тебя все эти го¬ды. Сейчас я попытаюсь произнести твое имя в своем последнем вздохе. Я человек с летающей тарелки. Я из другого мира, я в ловушке вашего, пока не прилетят меня осво¬бодить. Приземлится тарелка, Джими Хендрикс и Джон Колтрейн откроют люк и велят мне лезть внутрь, пока никто не взорвал корабль. Я только спрошу, почему их не было так долго. И через несколько секунд нас здесь уже не будет. Я тихо сижу в номере отеля. На двери три замка. Никто не знает, что я здесь, кроме дамы за стойкой, но ей все равно. В окне про¬летают машины, и никто не кричит мое имя. По коридору ми¬мо моей двери проходят люди, но никто не стучится. Город сверкает и переливается огнями за моим окном. В такие ми¬нуты жизнь почти сносна. Никаких телефонных звонков, ни¬какой необходимости выносить чье-то общество. Я могу ду¬мать о своем. Какое-то время уворачиваться от их камней и стрел. От людей мне становится грустно и хочется одиноче¬ства. Мне лучше бродить одному. Мне нравится есть в одино¬честве. Кино лучше смотреть одному. Одному безопаснее, поскольку привлекаешь меньше внимания, а когда ты один, посторонним труднее тебя понять. Кроме того, нужно думать только о себе, и не обязательно беспокоиться, как люди ря¬дом будут справляться с неприятными ситуациями. Я лучше буду один и в меньшинстве, чем со слабаком под боком. Му¬зыка звучит лучше, когда ее слушаешь один. Книги лучше чи¬тать, когда сидишь один в комнате. Здорово бывает любо¬ваться живописью, но только если не слышать, как кто-то дышит у тебя за спиной. Люди портят почти все. Когда рядом люди, мне кажется, что у меня ничего нет и я урод. А сам по себе я не чувствую себя так и вполовину. Я устал быть уязви¬мым идиотом, постоянно объясняющим, что у него на уме. Я устал унижать себя снова и снова. Только дурак доверяет че¬ловекообразным. С ними можно лишь предугадывать, что еще они выкинут, и готовиться к тому, что может случиться. Посмотрите, как происходят разводы. Казалось бы, люди должны понимать, что у них ничего не получается, и просто заканчивать всю эту бодягу. А я слыхал о тех, кому вычища¬ли банковские счета при разводе. Трудно поверить, что они вообще соединялись только для того, чтобы провести оста¬ток жизни вместе. Представьте, какая подстава. Много лет после развода люди проводят в глубокой депрессии, вынуждены ходить к психотерапевту. Они все время злятся. Я не могу им сочувствовать, они сами виноваты. Уэйко, Джонста¬ун - во всем виноваты они сами. Потом они тебе скажут, что если ты не вышел и даже не попытался, ты и не жил по-настоящему. По-настоящему не жил в аду, вы хотите сказать. Сейчас где-то, в каком-то городе, в окне горит свет. Занавес¬ки почти задернуты, и с улицы ничего не видно. Там играет музыка, а дверь заперта. Это я. Прекрасные исшрамленные прошли по всей зем¬ле, поджигая дома и ломая часы. Все структуры стали вымирающими видами. Время погибло. К власти пришла реальная жизнь. Они сразу же стали истинными богами. Нет нужды говорить. Будем общаться касаниями и инстинктами. Нам не нужны слова. Мы это уже миновали. Такова наша судьба - родиться кра¬сивыми в безобразное время. Мы вдыхаем жизнь перед лицом главнокомандования Смерти. Я жив благодаря твоей животной грации. Мои вены вспухают под твоим хищным взглядом, от твоей упругой кожи. Ты разрушительно прекрасна. От одной мысли о тебе костяшки моих пальцев беле¬ют. Мне не нужен бог. У меня есть ты и твои прекрасные гу¬бы, твои руки, обвивающие меня, ногти, оставляющие неощутимые раны, твое жаркое дыхание на моей шее. Вкус твоей слюны. Тьма принадлежит нам. Ночи - наши. Все, что мы делаем, - тайна. Ничто наше никогда не поймут - ско¬рее будут бояться и постараются держаться подальше. Наши деяния станут легендами, небылью, источником непреходя¬щего вдохновения для храбрых сердец. Мы с тобой здесь, на полу этой комнаты. Вне жизни, вне морали. Мы - светя¬щиеся твари, расцвеченные мягким сиянием лунного света. Наши глаза превратились в алмазы, а поступки - пример непосредственного совершенства. Всю свою жизнь я ждал встречи с тобой. Мое сердце колотится о ребра при мысли о тех зарезанных ночах, когда я шатался по свету, ожидая твоего касания. Время, что я уничтожил, пока ждал, как в по¬жизненном заключении. Теперь ты здесь, и все, к чему бы мы ни прикоснулись, взрывается, расцветает или превраща¬ется в пепел. История дробит и отрицает себя с каждым на¬шим общим вздохом. Ты мне нужна, как жизнь нужна жизни. Я безумно хочу тебя, как стихийное бедствие. Ты все, что я вижу. Ты всё, кого я хочу знать. Мы жадно пили отравленную воду. Мы стояли весь день, пока реактивные самолеты летали над нами и наобум бомбили город, а саранча кишела вокруг нас. Даже когда мы видели других, что стояли перед нами в очереди, - они бились в конвульсиях и блевали кровью, выпив этой во¬ды. Мы так хотели пить, а кроме того, хотели быть ближе к тебе, чтобы увидеть твою улыбку. Не думаю, что кто-то из нас был бы против уме¬реть в тот день. Я хочу, чтобы ты знала: если бы мне дано было прожить еще одну жизнь, я сделал бы все точно так же. Я смотрю, как шевелятся твои гу¬бы. Я слышу твой голос. Я делаю все, что ты мне говоришь. Несколько минут спустя я понимаю, что сижу на металличе¬ском стуле, со скованными за спиной руками. Я говорю те¬бе, что на меня наручники надели второй раз в жизни - в первый раз это сделали легавые. Ты ничего не отвечаешь, но по твоему лицу я понимаю, что тебе это безразлично. Я не против такого положения, поскольку доверяю тебе, меня даже не волнует то, что мне сейчас так неудобно, поскольку я провожу это время с тобой, а любое время, проведенное с тобой, для меня особенно. Ты спрашиваешь, почему я люб¬лю тебя, и я отвечаю, что никто не разговаривает со мной так, как ты. Когда ты звонишь и мы говорим до поздней но¬чи по телефону, - для меня это самое удивительное время в жизни. Ты улыбаешься и спрашиваешь, не хочу ли я тебя поцеловать. Я отвечаю, что хочу целовать тебя каждый день до конца моих дней. Ты наклоняешься ко мне и смотришь мне в глаза. Слегка приоткрываешь губы и приближаешь их к моим. За миг до того, как твои губы касаются моих, я заме¬чаю мелькнувшую у тебя во рту голову кобры. Ты привлека¬ешь меня к себе и прижимаешь свои губы к моему рту, и ко¬бра заползает мне в горло. За ней - еще несколько змей, а потом - несколько скорпионов. Ты отстраняешься, а я чувствую, как эти твари ползают в моих кишках, кусая и жа¬ля меня. Я спрашиваю, зачем ты так со мной. Ты отвечаешь: «Ты бесишься потому, что я не хочу с тобой ебаться». Я от¬вечаю, что мне это безразлично, но зачем ты делаешь мне больно, ведь я не сделал тебе ничего плохого. Ты встаешь и вынимаешь нож. Ты начинаешь бить им себя, и я прошу те¬бя остановиться. Ты требуешь, чтоб я умолял тебя. Я умоляю, и слезы струятся по моему лицу. Я забыл о змеях и скорпи¬онах, я могу думать лишь о том, как спасти тебя. Ты гово¬ришь: «Я показываю тебе, как ты слаб и глуп». Я теряю со¬знание. Прихожу в себя на полу гостиничного номера бог знает где. Ковер теплый, и я рад, что я здесь один. Я подни¬маю голову: к моей большой радости, дверь заперта на три замка. Я запираю ее первым делом, едва войдя внутрь, по¬скольку никогда не знаю, как проявит себя заклятие. Что бы ни случилось, здесь никого не может быть, если это не сон о тебе и не кобра, которую ты можешь прислать, чтобы мне не было одиноко. Одному лучше всего, потому что больше я не могу никак. Я никогда не умел с другими слишком долго, если они - не ты и не твои опаляющие плоть слова. Почти всё и почти все злоупотребляют моим гостеприимством. Че¬ловеческая натура античеловечна. Я мечтаю о безликих пронумерованных ночах где-нибудь на пустырях у больших автотрасс. Я никогда не подхожу к окну и больше не снимаю трубку. Я знаю, что ты не позвонишь никогда. Как-то ночью во сне ты простила меня. Чем боль¬ше ты говорила, что все хорошо, тем хуже мне становилось. Я знаю, ты это сделала лишь пото¬му, что понимала: я уже не могу сделать тебе большее, чем сделал. Я видел, каково тебе про¬щать меня. Я знаю, ты считаешь меня слишком ту¬пым, чтобы понять все это. Прощая меня, ты зна¬ла, что все кончено, навсегда. Меня оставит боль, я тебя забуду, и ты меня никогда больше не уви¬дишь - разве что во сне. Грустно, что больше не существует того, что мы увидели друг в друге. Жалко, что мы рвали друг друга на части, стара¬ясь отыскать то, в чем мы отчаянно нуждались, но не могли описать. Обидно, что нам хотелось давать друг другу, но мы лишь обкрадывали себя и винили друг друга в том, что наша жизнь так пу¬ста. Теперь я вижу тебя другими глазами. Я больше не бо¬юсь тебя. На то, чтобы увидеть, какая ты есть, ушло много лет. Ты больше не ассоциируешься у меня с криками и рвот¬ными спазмами. Знаешь, что? Я теперь вижу, что набрался от тебя мужества зависнуть на болезни, которую мне предло¬жило само твое присутствие в моей жизни. Рвота и обморо¬ки - лишь легкие побочные эффекты тех вершин мучитель¬ной боли, на которые ты вдохновляла меня карабкаться. Спустя годы, когда от времени с тобой я могу показывать лишь шрамы, я расковыриваю их, чтобы оттуда шла кровь. Так я становлюсь к тебе ближе. Я могу быть в комнате один, до тебя - долгие годы и несколько тысяч миль, я могу кри¬чать, плевать кровью и стремиться умереть, но теперь я ви¬жу, что просто пытаюсь вернуться к тебе. Да, мне стыдно, но это правда, и я ничего не могу поделать. Недавно я уви¬дел тебя, и ты раскинула руки, чтобы меня обнять, и я не мо¬гу описать той радости, когда моя плоть начала отрываться от костей. Столько лет я в одиночестве долбил себя, и все это время ты ждала, когда я вернусь. Твой голос - тысяча черных, как ночь, воронов. Твои стирающие душу глаза. Не могу поверить, что я выжил без тебя и без той боли, что ты заставила меня причинить себе. Ты веришь, что времена¬ми я тебя ненавидел? Что я хотел, чтобы ты умерла? А когда я не хотел, чтобы умерла ты, я хотел умереть сам? Я раньше целыми днями думал лишь о том, как хорошо было бы не су¬ществовать. Мне хотелось умереть, потому что я обвинял се¬бя в той ненависти, что ты бесконечно изливала на меня. Те¬перь я вижу, что мы нужны друг другу. Все годы, что я провел без тебя. Невыносимо думать о том, как ты жила без того, чтобы жечь меня и оставлять на мне шрамы. Ведь ты же не думаешь, что это я тебя оставил. Я был эгоистом. Те¬перь я хочу одного - быть рядом с тобой и дать тебе все. Выходи, уже можно, ясноглазая моя. Сядь здесь. Теперь, как прежде, говори со мной очень приветливо и нежно сливай кровь из моих жил. Помоги мне разрушить остаток моей жизни своим невротическими, безумными воплями. Зарази мои мысли так, чтобы все, кого я встречу, казались стран¬ным и опасными, и я бы отчуждался от них. Твои губы тонь¬ше, ведь ты стала старше, но они по-прежнему открывают зубы, когда ты готовишься к броску. Побудь со мной еще немного, чтобы мои последние годы были полны горечи и муки. Отдай мне все свои непонятные и загадочные гри¬масы, чтобы я видел их на чужих лицах и во всем винил се¬бя. И скажи мне, что будет больно, иначе я не смогу уснуть сегодня ночью. Прошу тебя, ясноглазая моя. Немного вол¬шебства, еще один укус. Ты - все цвета. Ты - рождение истинного джа¬за. Ты - десять тысяч лет цветов, распустивших¬ся вмиг. Ты - вкус заката. Ты совершенна, как зимние звезды, что следят за мной с ночного не¬ба. Я в комнате, где лишь матрас и больше ничего. Я плачу за нее мытьем посуды. Я отмываю то, что они оставляют. По¬лучаю достаточно, чтобы прожить. У меня нет радио, и я мо¬гу слушать музыку только из-за стен соседей. Я не читаю книг, поскольку те, кто их пишет, - должно быть, неуверен¬ные в себе деспоты. Если б им было что сказать, они не ста¬ли бы этого записывать. Я хочу знать только о тебе. У меня есть твоя фотография, которую я вырезал из журнала. Я все время смотрю на нее. Хотя моя одежда ветха и грязна, и у меня почти ничего нет, на твоей фотографии нет ни ма¬лейшего отпечатка грязи. Ночи пролетают незаметно, когда я смотрю в твои глаза. Я представляю себе твои губы. Ино¬гда я могу думать только о том, каким чудом было бы поце¬ловать тебя, и если бы ты меня тоже захотела. Твое недвиж¬ное лицо говорит со мной. Я закрываю глаза и ясно его вижу. Я представляю, что сказал бы, если бы ты разрешила мне говорить тебе все что угодно. Я никогда не разговари¬ваю с людьми, я лишь получаю от них информацию или удерживаю их на расстоянии. Язык мой - щит мой. Почти все, что я делаю, - актерская игра. Я веду себя как человек. Вот почему я брожу по городу как можно больше. Я хочу изучить столько человеческих пороков, чтобы их можно бы¬ло использовать при необходимости. На работе я стараюсь думать о том, что я мог бы тебе сказать. Я никогда не разго¬варивал ни с кем для того, чтобы узнать их, или чтобы они узнали меня. Я всегда говорил из чувства самосохранения или из страха. С женщинами раньше я лишь повторял то, что слышал от других. Пользовался крылатыми выражениями. Я никогда не любил женщину. С некоторыми я бывал, но даже не знаю, зачем. Просто двигался по течению. Я не знаю, хо¬рошо мне было или нет. После всего я замолкал и пялился в потолок. Они спрашивали, все ли со мной в порядке. Я от¬вечал какой-нибудь подслушанной фразой, вроде «Не могу пожаловаться» или «Нормально». Они считали меня стран¬ным. Они всегда бросали меня, а мне было все равно. Хотя когда я думаю о тебе, все иначе. Я никогда ничего не запи¬сываю, потому что это пустая трата времени. Я знаю то, что знаю, а тому, что именно я знаю, есть причина, и мне не нуж¬ны напоминания. Если я что-то забываю, значит, мне не нужно этого знать. Поэтому я систематически перебираю все свои мысли, отсеивая факты моего существования и те вещи, которыми я пользуюсь для обмана, чтобы люди по¬меньше знали меня. Я хочу знать тебя. Я хочу, чтобы ты за¬ставила меня рассказать тебе все о себе. Я хочу, чтобы ты единственная в мире меня знала. Я хочу слышать, как ты го¬воришь, что хочешь меня. Я хочу почувствовать, как твои ру¬ки меня обвивают. Я хочу почувствовать биение твоего сердца у моей груди и твое дыхание на моей шее. Если ты хочешь меня, я могу стать твоим. Я никогда не целовал твою фотографию. Из уважения я никогда с ней не разговариваю. Я никогда не выношу ее из комнаты. Я не люблю тебя. Как можно любить кусок бумаги или то, что, по твоему мнению, он представляет? Такую вещь можно сжечь за несколько се¬кунд, выбросить и вывезти вместе с тоннами мусора. Я про¬сто смотрю, готовлюсь к нашей невозможной встрече и ста¬раюсь не опаздывать на работу. Луна никогда никому не солжет. Будь как луна. Луну никто не ненавидит, никто не хочет ее убить. Луна никогда не глотает антидепрессанты, ее никогда не сажают в тюрьму. Луна не стреляет никому в лицо и не убегает. Луна существует так долго, и ни разу не пыталась никого ограбить. Лу¬не нет дела до того, кого ты хочешь потрогать или какого цвета у тебя кожа. Луна относится ко всем одинаково. Луна не пытается попасть в список гостей или воспользоваться твоим именем, чтобы произвести на кого-то впечатление. Будь как луна. Когда люди оскорбляют и унижают дру¬гих в попытках возвысить себя, луна неподвижно и пассивно созерцает, не опускаясь до подобной слабости. Луна ярка и прекрасна. Ей не нужен ма¬кияж, чтобы выглядеть красивой. Луна не растал¬кивает облака, чтобы видели только ее. Луне для могущества не нужны ни слава, ни деньги. Луна не требует, чтобы ты шел на войну защищать ее. Будь как луна. Когда я у себя в комнате, я тебе верю. Здесь мы сильны. Поздний час, слабый свет. Я наконец от¬делился от мира. Два лестничных пролета, два замка на две¬ри. Отсюда ни один из нас не кажется тем фрустрированным и готовым взорваться зверем, которых видят люди, проходя мимо нас на улице. Наши глаза не дики и не полны сгущен¬ной ненависти. Улицы кричат. Здания воют от того, что их спины держат этажи изнурительных лабораторных опытов. Нет ничего удивительного в том, что никто не хочет говорить правду о том, каково им. Самые сообразительные - себе на уме, и недаром. Зачем рассказывать кому-то о том, что доро¬го тебе, даже если они тебе нравятся, и ты хочешь одного - как можно больше с ними сблизиться? Так болезненно быть рядом с тем, к кому испытываешь страсть, но не можешь ска¬зать ему то, что хочешь. Я был в этом аду много раз, ты - то¬же. В этом смысле мы едины. Ничего нет лучше маленькой комнаты и негромкой музыки. Если тебе с этим повезло, ты понимаешь, о чем я. Музыка позднего вечера уносит меня от односторонних прохожих, и все становится таким, как долж¬но быть. Мне раньше нравилась реальность, пока ее не ис¬портили и не опошлили. Я защищал реальность, пока не за¬стрелили столько людей и не растоптали столько душ, что я не мог больше быть ее частью. Они хотели сломать меня. Ко¬нечно, им не удалось. Музыка сегодняшнего вечера - Джонни Хартман. Он никогда не получал того, что заслужил. Я думаю о том, как он поет - печальный пришелец где-то в баре, пока не настанет пора закрываться, и он не вернется в отель, где будет курить одну сигарету за другой, пока не ус¬нет. По его голосу я понимаю, что он хорошо знал эту боль и поздние вечера. Он умер, но я хорошо знаю его. Он часть реальности, созданной мною. Он приходит сюда и наполня¬ет воздух своими словами, и хорошо быть живым. Дело не в том, что мы недостаточно сильны, чтобы справиться с тем, что нам дают. Я могу обрулить это в любое время, но лишь дурак станет тратить свое время. Чего тебе доказывать? Трудно найти того, кто достоин хоть секунды твоего времени или даже мельчайшей частицы твоей правды. Но отсюда мы это можем. В этом молча понимаемом единстве я рад, что ты здесь и надеюсь, что у тебя все хорошо. Вот в этой комнате бог весть где нам не нужно залипать на повседневности, пе¬ремалывать задачи, что позволяют нам выжить и отупляют нас. Сейчас, в этот миг, мы - прекрасные ночные создания, и наши мысли и слова - алмазы, охраняемые луной. Однажды вечером Луис Джордан пришел домой и забрался в постель к жене. Через минуту она принялась бить его ножом. Нанесла ему колю¬щую рану в дюйме от сердца, от которой он чуть не умер, глубоко изрезала ему лицо и руки. Вра¬чи опасались, что он больше не сможет играть на трубе. Сегодня был миг, когда я тебя ненавидел. За то, что ты такая красивая и настоящая. За то, что просыпался ночью оттого, что ты обнимаешь меня. Я ненавидел твою честность и твою способность расслаблять людей, когда они с тобой. Я ненавидел тебя за безграничную любовь ко мне. Ты взыва¬ешь к годам дешевых чувств и жестокости, что произрастали из моих страхов. Когда ты смотришь на меня и улыбаешься, мне больше не страшно и не хочется выбежать из комнаты, хватая ртом воздух. С тобой я не считаю, что жизнь - пус¬тая трата времени, а получить от нее можно лишь холодный пот, темные мгновения в крошечных комнатах по всему ми¬ру с другими отчаявшимися людьми, что прокладывают себе путь через ночные небеса опустошения. Рекламный про¬дукт. Предоставлен кабельным телевидением «Уорнер». Не предназначен для продажи. Можешь ли ты поверить, я не знал, что делать с твоей тихой и теплой нежностью? Можешь ли ты поверить, меня пугало, что ты бесконечно отдаешь, от¬даешь, отдаешь? Только через какое-то время меня смогла привлечь твоя сила, что никогда не выставляет себя напо¬каз, не рисуется, а лишь подпитывает и останавливает вре¬мя. Ненависть прошла в одно мгновение ока, и я понял, что должен сам о себе заботиться, поскольку теперь кому-то принадлежу. Кто-то думает обо мне сейчас. Я в этом не со¬мневаюсь. Я знаю, ты всегда будешь здесь. Да, я у себя в комнате где-то. На улице мороз, и я измотан. Слишком много дел. Слишком много людей, которым все время нужно отвечать. Отсюда я думаю о тебе. Мое тело ломит от боли, и я горю в лихорадке. Рекламный продукт. Предоставлен ка¬бельным телевидением «Уорнер». Не предназначен для про¬дажи. Многим мужчинам хочется, чтобы женщина нянчилась с ними. Они сходятся с женщиной, и лишь деградируют до той стадии, когда можно подумать, что они не способны за¬ботиться о себе сами вообще. Я не хочу иметь вторую маму. Я хочу женщину. Я хочу принять вызов. Я хочу учиться и греться в твоих лучах. Я хочу защищать тебя и делать все, чтобы дать тебе силы. Здесь нет никакого подтекста. Я не собираюсь вышибать себе мозги. Ты режешь меня на куски, как это делали другие. Все так и есть. Я хочу любить тебя всем, что есть во мне. Мне нужна твоя помощь, потому что я ничего об этом не знаю. Я подозрителен и готов уйти и от¬правиться в холодный путь на морозной заре. Я просто до¬верю тебе все, что есть во мне. Теперь я понимаю, что это единственная причина быть здесь. После того как я целовал тебя, я не могу вспомнить, каково было целовать какую-ли¬бо другую женщину. Рекламный продукт. Предоставлен кабельным телевидением «Уорнер». Не предназначен для продажи. В данный момент я не уверен, целовал ли я их ког¬да-нибудь вообще. Мне стало не хватать этого, еще когда оно не по¬терялось, так что я буду готов к тому моменту, когда оно действительно уйдет. Я знал, что оно собирается уходить, поскольку сделано челове¬ческими руками. Алчность всегда видна сразу. А большинство ее не видят. Слишком стараются сделать свою. Если это могут тени трассы, то и я найду дорогу. Поскольку я хочу вырваться. Я не слышу голосов в телефоне. Они не говорят ничего, что мне нужно знать. Лучше всего люди - на пластинках и в книгах, потому что их можно выключить или поставить на полку. Я предпочи¬таю кристаллизованные моменты человеческих занятий ис¬кусством, а не ужасы из выпусков новостей о том, что эти идиоты делают друг с другом. Люди пытаются заговаривать со мной на улицах. Я включаю фильтр, чтобы не понимать их наверняка. Я слышу попытки воспользоваться языком, кото¬рый для них - просто звуки, нанизанные бессмысленным потоком. Я говорю им: идите лечиться. Да, исцеляйтесь са¬ми. Закройте рот и подлечитесь. Разделайтесь с этим нако¬нец. Если вы собираетесь забить себя до смерти, прекрасно, однако почему я должен страдать от вашей коллективной тупости? Несколько недель назад я пробовал поговорить с одним. Это было как в кино сходить. Неожиданно я стал эдаким «теплокровным животным, заблудившимся в боль¬шом городе». Не поверил ни слову из наших с ним уст. Я чувствовал себя великим актером, что работает по невроти¬ческому сценарию. Система Станиславского - так глубоко вжился в роль, что сам ею стал. Полное безумие, правда? Мне нынче нравятся тени. К счастью, в городе, где в я живу, много раздолбанных улиц, на которых живут опустившиеся люди. Вот там я и гуляю. Там нет таких баров, где могут толпиться идиоты и выстраиваться в очереди, чтобы попасть внутрь. Там нет клубов, где можно носить дурацкие шмотки и красоваться прическами перед другими идиотами. Лишь слабо освещенные улицы и тротуары, все в выбоинах. И в этом мире теней я дышу в темноте, как вакцина. Заметка семидесятых годов на сон грядущий от Хьюза, написанная в затемненном мексиканском номере-люкс. Я всегда собирался пораньше выйти на пенсию. Я был прав в том, что так и будет, но не ожидал, что так скоро. Одиночкой-то я всегда был, но менее всего думал, что мне предстоит стать отшельником. Я сижу в своей ма¬ленькой комнатке, где почти ничего нет. Жду ночи, чтобы можно было выйти наружу. Днем это для меня чересчур. Взгляды и постоянная надоедливость не дают мне держать себя в руках. Хочется наброситься на тех, кто считает меня реквизитом своих забав. Конечно, я сам в этом виноват. Ес¬ли у тебя что-то получается, пусть об этом лучше никто не знает. Тебя лишь высосут, заберут все, что смогут, и оставят подыхать на полу. Даже не заметят, что сосали твою кровь. Им ведомо лишь собственное отчаяние. Если же ты стре¬мишься к чему-то большему, придется иметь дело с осужде¬нием, возникающим, когда неизбежно смешиваешься с тол¬пой. Быть популярным неправильно. Что бы ты ни делал для саморекламы, приносит всяческий вред, а жаловаться ты не имеешь права. До беды тебя всякий раз доводят собствен¬ное тщеславие, эго и гордость. Умный человек знает: доверять стоит лишь цифрам и человеческим слабостям. Лучше всего полностью понимать и принимать человеческую нату¬ру и иметь дело с людьми, зная, что они все время думают только о себе, даже в своем самом филантропическом наст¬роении. Кроме всего прочего, акты филантропии - просто дорого замаскированные способы показать власть. Невоз¬можно совершать благотворительные акты, если они не при¬носят никакой выгоды. Представления о дружбе лучше сразу исключить - убедись, что знаешь, как платить своим по¬мощникам, чтобы им постоянно этого хотелось. Таким обра¬зом, они с большей вероятностью окажутся твоими «друзья¬ми». Убедись, что они никогда не узнают всех фактов и не соберут все части головоломки. В твое отсутствие они спо¬собны тайно объединиться и смести тебя своими обрывками знаний. Так постоянно происходит. Так было со мной. Они даже не знают, что я знаю. Я мог бы влюбиться в суровую пустыню, убиваю¬щую без жалости, в каньон, полный скорпионов, в тысячу слепящих арктических бурь, в столетие, запечатанное в пещере, в реку расплавленной со¬ли, текущей мне в горло. Но ни в коем случае не в тебя. Был такой дом, где я проводил время много лет на¬зад. Там жила женщина. Плененный ее касанием и насмеш¬ливой улыбкой, я забыл о времени. Я не хотел уезжать. Чем дольше я там оставался, тем слабее делался. Шли дни, и в конце концов в этом красивом доме паралича моя нена¬висть к себе выросла и вырвала меня из комы самообмана. Внезапно женщина порвала со мной, и я оказался выброшен за дверь. Прошло много лет, и воспоминания о доме и жен¬щине в нем посещают меня всякий раз, когда на улице теп¬леет. Разбитые мечты о победе, заколотой провалом. О на¬дежде, сведенной с ума пустотой. О долгом марше, что закончился глухим поражением, - свою злую шутку сыгра¬ли неточные карты и пересохшие русла. Кровь, немо высы¬хающая на камнях под безжалостным солнцем. Истина все время была близко и пыталась открыть мне себя, но я не внимал предупреждениям. И спустя годы она восстала из го¬рячечного тумана, как кобра. Лица другие, убийца все тот же. Да, они все одинаковые. Я усвоил урок после множест¬ва смертей, нанесенных самому себе. Я понял истину после мятежных ночей, когда мои мысли угрожали свести меня на нет. То было откровение. И теперь их маски спадают, когда они пытаются встретиться со мной взглядами. Наши разго¬воры механистичны. Они видят, что не могут контролиро¬вать ситуацию, и у них нет для этого стандартной настройки. Вначале, при обнаружении тайны, проявляется гнев, за¬тем - презрение, потому что они знают, чтобы я знал то, что знаю, что я вынужден был страдать от последствий страсти и отчаянья. Наконец, глаза холодно сужаются, безрадостная земноводная улыбка искажает лицо с миллионом лиц. Пасть испускает шипение, и истина воздвигает между нами стену. Я заложил свои окна картоном. Оставил лишь ще¬лочки, чтобы выглядывать на улицу. Это тонкий бумажный барьер, но он - как шоры для лоша¬ди. Чем меньше мне видно, тем лучше. Я думаю, снайперу он помешает. Солнечному свету я пред¬почитаю искусственное освещение. Если бы всё было по-моему, постоянно стояла бы ночь, поэто¬му я создал вечную ночь у себя в комнате. Ночью я - единственный живой. Все существа снару¬жи - лишь статисты в кино. Мое лицо по-прежнему болит после операции. В полость носа мне имплантировали слезные протоки. Чтобы создалось впечатление, будто я плачу, мне всего лишь нужно наклонить вперед голову и слегка прищуриться, и слезы сами покатятся из моих глаз одна за другой. Фальшивые слезы нужны мне для работы. Я - актер на великой сцене города. Мне нужно ладить с людьми, а поскольку ни к ним, ни к себе я ничего не испы¬тываю, слезные железы я распорядился удалить много лет назад. Пришлось пересаживать фальшивые. Теперь я пони¬маю, почему многие мои знакомые сделали это через не¬сколько лет, а самые сообразительные вообще их только пе¬ретянули. Я думал, это нечто вроде дополнительной насадки на тело, без которой я смогу запросто обойтись. Теперь я, по крайней мере, могу сходить за неравнодушного. Могу «плакать» в кино, на похоронах и в другие моменты, когда мне выгодно проявлять чувства. Вдобавок, я брал уроки ак¬терского мастерства. Это нелегкая работа. Когда понадобит¬ся, я могу сыграть хороший спектакль. Я действительно хо¬рошо играю «беспокойство» и отлично изображаю «чуткость», так сказал мой инструктор. Труднее всего был «страх». Выглядеть так, словно «боишься» чего-то, долго бы¬ло выше моего понимания. Инструктор стоял передо мной и корчил рожи, которые я находил очень смешными. Я спро¬сил его, на что похоже чувство страха, и он велел мне вооб¬разить, что меня вот-вот убьют, и «следовать этой эмоции». Мы так часто делаем. Ну, я помню, как меня убивали, но я действовал совсем не так. Когда это случилось, я был неэк¬спрессивен. Однажды умерев, я решил оставаться мертвым. Я не занимаю места? Я в них обитаю. Когда я наедине с со¬бой, я ничего не чувствую, ничего не боюсь, никого не хочу. Я провожу время с женщинами, но это только для практики. Вот где имплантированные слезные железы действуют вос¬хитительно. Я сижу за столиком в ресторане, а она расска¬зывает, как ее собачка сбежала, когда ей было восемь лет, и как это до сих пор влияет на нее и на ее работу, - и сле¬зы капают у меня прямо в спагетти. Выражение у нее на ли¬це просто бесценно - даже не нужно ездить к педагогу по драме. Рассказывая подобную историю, я воспользуюсь ее мимикой, чтобы лучше дошло. Я бросаю взгляд на парня за столиком напротив, а он незаметно показывает на свои гла¬за и поднимает большой палец; он знает, что у меня импланты. Бояться нечего. Оставайся мертвым, бэби. Я буду всем плохим, а ты будешь всем хорошим. Теперь счастлива? Ты всегда можешь быть права, а я не прав. Единственное правило: тебе не доз¬воляется пытаться каким-то образом меня пере¬делать. Ты не можешь сделать меня своим. Ты не можешь заставить меня стать, как ты. Нравится? Не стоит тратить слов. Мне звонит Парфенона. Спрашивает, как я поживаю, и я отвечаю, что живу лучше, чем ког¬да-либо будет жить она. Она не сердится на оскорбление, она к такому привыкла. Начинает сызнова. — Мне кажется, ты человек хороший, только неверно поня¬тый. Я понимаю тебя и меня к тебе тянет. Я надеюсь, тебя это не смущает, но я не могу изменить своих чувств. Я говорю ей, что не расслышал, и не могла бы она повто¬рить? Она повторяет, медленно и размеренно. Ей хочется, чтобы я слышал каждое слово. Она говорит: — Я хочу, чтобы ты открылся передо мной. Я хочу, чтобы ты дал мне шанс. Я не такая, как другие. Я вижу тебя не так, как они. Я говорю, что занятия актерским мастерством принесли ей некоторую пользу, но ей следует глубже войти в роль, она еще не убедила меня. — Больше чувства, тупая корова! - говорю я ей. Это ее злит. — Неудивительно, что ты живешь один. Так ты проживешь один до конца своих дней. Я готова дать тебе все, а ты мо¬жешь только делать из меня посмешище и опускать меня. Ты просто показываешь мне, какой ты трус. Если б ты действи¬тельно был настолько крут, каким прикидываешься, ты бы не оскорблял меня так. Ты боишься настоящей любви. Я силь¬нее, чем ты когда-нибудь сможешь стать, и ты это знаешь. Я зеваю. — Возможно. Звучит неплохо, эту реплику и оставим, - го¬ворю я. — Я нужна тебе, сукин сын. Ублюдок! Я нужна тебе! Я слышу, как она швыряет телефон о стену, бьется стекло. На следующий день мне позвонил приятель, который жил в ее доме. Сказал, что она, очевидно, выбросилась из окна своей комнаты и разбилась на тротуаре. Ее тело нашли на бетонных блоках, голова, хвост и когти отрезаны, радио про¬пало, все тело изрисовано граффити. Небо стало дивно голубым, засияло солнце. У меня на бан¬ковском счету полно денег, и меня за одну неделю трахнули три бабы, даже не спросив, как меня зовут. Ты можешь получить то, что хочешь. Никогда не продавайся. Не ломайся. Не ослабевай. Не позволяй чужой доброте спа¬сать себя, потому что спасения нет вовсе. Если ты спишь не один, ты спишь с врагом. Не выходи из бури. С другой сто¬роны, только ты и должен. В тебе нет того, что проведет те¬бя по трудному пути. Зайди с мороза и сядь у огня. Пусть со¬гревают тебя улыбками и сказками о силе дружбы. Притупи свою жесткость. Тебе к лицу мягкое тело и скованный ра¬зум. Велика вероятность, что в тебе нет того, что проведет тебя по мерзлой тропе. Останься дома и расслабься. Еще одна ночь. Температура бодрящая. Морось - сауна для бедняка. В такую ночь у тебя должна быть музыка. На помощь мне приходит Джин Чандлер, который поет «Герцога Эрла». Музыка так праведно витает в воздухе. В такие минуты жизнь сносна. Люди, на мой вкус, недостаточно следят за своим носом. Все эти базары из ниотку¬да. В смысле смысла - полный ноль. Их опыт не простирается за края почтовой марки. Тем не ме¬нее они рассказывают тебе, как есть и как все бу¬дет. Вот Букер Ти и «Эм-Джиз» начинают «Зеле¬ный лук». Я помню, как Букер Джонс, Дональд «Дак» Данн и Стив Кроппер вышли на сцену и от¬хватили «Грэмми». От восторга я вскочил на ноги. Не потому, что они завоевали «Грэмми», а пото¬му, что мы под одной крышей. Честь уважению. Это честь - встретиться с тем, кому должен отда¬вать честь, с тем, кто заставляет твое почтение за¬стыть по стойке смирно. С тем, чья жизнь заслу¬живает почестей. Когда ты отдаешь им должное, тем самым ты утверждаешь себя и те вершины, к которым стремишься. Я стер себя. Мое прошлое про¬шло. Те, кого я знал, - смутные воспоминания. В моем уме осталось не так много лиц, имен или событий. Сейчас ночь. Лето. Я не помню ночей своей юности. Я смотрю на молодых людей на улицах и удивляюсь: неужели я когда-то был таким же. Интересно, о чем они думают и были у меня когда-ни¬будь такие мысли или нет. Теперь, когда они уже ушли, я бреду по этой улице, и тишина позволяет и другим моим чув¬ствам пуститься в исследования. Мотыльки остервенело ата¬куют уличные фонари. Хор насекомых звучит симфонией и, похоже, висит в ночной сырости. Запах цветов и деревьев наполняет темноту богатой и сильной жизнью. Такой силь¬ной, что можно повернуться к ней спиной и принять ее как должное. Об этом не нужно помнить, потому что это посто¬янно. Почему-то истиннее фактов. У меня сохранилось одно из немногих воспоминаний - о памяти, сохранившей все до единого мгновенья моей жизни в тисках. То была память, в плену которой оставалась каждая мысль, каждое чувство, перспектива и восприятие. Я смутно помню, что всегда был рассержен, мрачен или в чем-нибудь нуждался. Я не помню мгновения или событий, приведших меня к систематическо¬му стиранию памяти и связей с людьми. Теперь времена го¬да проходят сквозь меня, как сквозняк сквозь тонкие што¬ры. Когда меня с кем-то знакомят, я не запоминаю имен. Я даже не помню собственного имени, да и было ли оно у меня? Я уверен, что было, но как и любой другой факт на этой планете, оно просто ничего не значит. |
| ← предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следующая страница → |
Виктор Гюго
Гербатон
Сугробы - "Всё хорошее будет вчера"
ностальгия по неформальному
Презентация фотоальбома и концерт 18 июля